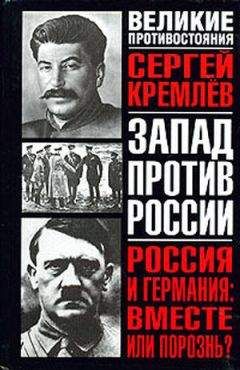23 августа газета «Советское искусство» поместила его статью «Обновленная жизнь. Впечатления художника». Марке разбирался в политике так же слабо, как хорошо он разбирался в живописи. Но жизнь он видеть умел, и поэтому выделил главное в увиденном: «обновленная».
Потом он открыто восхищался удивительной страной, где деньги не играют никакой роли, и бескорыстием молодежи этой страны.
Георгию Нисскому было в 1934 году 30 лет. Сын фельдшера с белорусской узловой станции Новобелица, в 18 он был командирован в Москву на учебу во Вхутемас — Всероссийские художественно-театральные мастерские.
В старой России было два основных типа художника: признанный состоятельный и талантливый, признаваемый, однако неимущий. Нередки были, впрочем, и талантливые, неимущие и непризнанные.
Но разве мог любой из них представить себе жизнь молодого художника такой: «Мастерство волейбола постиг глубже, быстрее и совершеннее, чем мастерство живописи, и признаюсь, что часто писал урывками между состязаниями и матчами. Сетка и летящий мяч увлекали меня больше».
В спортивном зале он познакомился с Александром Дейнекой, который был на четыре года старше. Нисский писал: «Встретил и полюбил Дейнеку. Понятно почему. У меня были здоровые, быстрые ноги, крепкие бицепсы. Я был здоров и молод, во мне рос новый человек. А на его рисунках и полотнах я впервые увидел новую жизнь, обстановку и тех людей, с которыми я встречался на улице, в цехах, на спортивном поле».
Да, в новой России даже большой художественный талант иногда уступал спортивному азарту, а в старой России ни таланта, ни азарта не хватало даже «чистым» спортсменам. На Олимпийских играх в Стокгольме в 1912 году футбольная сборная России проиграла сборной Германии со счетом 0:16! Это расценивали как «спортивную Цусиму».
Так ведь и вся «царская» олимпийская сборная заняла тогда 15-е место из 18.
Всего через два десятка лет, в 1932 году, в спортивных клубах СССР занималось в 20 раз больше спортсменов, чем их было в Российской империи в год «футбольной Цусимы». От пятидесятитысячной «белой» клубной публики — к миллиону молодых рабочих парней и девчат.
А ведь это, не считая новых, привычных к солнцу и воде миллионов мальчишек и девчонок!
Нисский в 1932-м, после двухлетней службы в Красной Армии на Дальнем Востоке, пишет пейзаж «Осень. Семафоры».
Низкий горизонт, рыжая полоска земли с железнодорожными путями, стальные нити проводов с ласточками на них, чистое, просторное серое небо с легкими клочками белых облаков. Туда же, ввысь, рвутся клубы белого дыма паровоза, проносящегося под входными семафорами, на одном из которых красное, взлетевшее вверх «крыло» показывает: «Путь открыт».
Через год появилось «На путях», где фигурка девушки в белом платье с книгой в руке не теряется на фоне станционного путевого раздолья, а становится приметой жизни, возможной лишь теперь, здесь, в этой стране.
Нисский признавался: «У меня с семафором больше интимности, чем с березкой. Паровоз выразительнее и современнее, чем левитановская копна, около него наше сегодняшнее настроение».
Но это «сегодняшнее» у Нисского не давило природу, а вписывалось в нее.
Чуть позже, в 1937-м, в том самом году, когда московские троцкисты сидели на скамьях «московских процессов», а сам Троцкий публиковал в Лондоне и Нью-Йорке статьи о «мрачной сталинской тирании», друг Нисского Дейнека напишет свое лучшее, быть может, полотно «Севастополь. Будущие летчики».
То время дало много картин, точно выражающих время, но вряд ли можно найти другую, так принадлежащую и настоящему новой страны, и ее будущему. Простор моря и неба, гидросамолеты, солнце, три сидящие загорелые фигуры — взрослого и двух мальчишек, смотрящих вдаль… Туда, в завтра.
Уралец Порфирий Полосухин до службы на флоте работал в Свердловске. За шесть лет до того, как дейнековские будущие летчики уселись на севастопольской набережной понаблюдать за полетами, краснофлотец Полосухин следил вместе с товарищами с палубы крейсера, как над той же бухтой от набравшего высоту гидроплана отделяется черная точка. Знаменитый парашютист Леонид Минов впервые в истории прыгнул над Черным морем.
Пройдет немного времени, и русский рабочий парень с Урала сам станет известным пилотом воздушных шаров и парашютистом-испытателем. В СССР Сталина для этого не требовались титулы или деньги. Достаточно было способностей и желания. Девизом жизни становилось: «Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется»…
В августе 1935 года на Всесоюзном парашютном слете Полосухин познакомится с изобретателем ранцевого парашюта Глебом Евгеньевичем Котельниковым. До революции проект Котельникова рассматривала Комиссия военно-технического управления генерала Кованько. Генерал иронически улыбался:
— Все это прекрасно. Но, собственно, кого вы собираетесь спасать?
— То есть как? — не понял изобретатель.
— Если ваш спасающийся выпрыгнет из самолета, то ему уже незачем будет спасаться!
— Почему?
— Потому, что у него от толчка оторвутся ноги.
— ??!
— Да-с, ноги…
А ведь Кованько был еще не худшим. Он сам поднимался в воздух на привязных шарах, в 1909 году совершил свободный полет на аэростате, в авиации служил его сын.
Эмигранты в Париже издевались над «невежественными московскими комиссарами», взявшимися управлять Россией. Вот документальное мнение «просвещенного» царского начальника Российских воздушных сил великого князя Александра Михайловича: «Парашют в авиации — вещь вообще вредная, так как летчики при малейшей опасности, грозящей со стороны неприятеля, будут спасаться на парашютах, представляя самолеты гибели».
По себе, знать, судил августейший «главком» ВВС. Потому, наверное, так оскорбительно и не верил в силу русского духа! А вот Сталин как раз на ней, в том числе, и строил свой расчет на создание мощной и независимой России.
12 июля 1935 года над Тушинским аэродромом накрапывал дождь. Но настроения спортсменов Центрального аэроклуба он не охлаждал. Приехали Сталин и Ворошилов.
Начался авиационный показ. Взлетали планеры и самолеты. Инструкторы Полосухин и Щукин с московским рабочим Коскиным прыгали затяжными с трех У-2, а с двух тяжелых ТБ прыгнули 50 парашютистов.
Летчик-ас Алексеев веселил публику номером: «Первый самостоятельный вылет пилота-ученика». Самолет в воздухе дергался, заваливался, на посадке давал сильного «козла» — нелепо прыгал… Все весело смеялись, а Алексеев уже набирал высоту для демонстрации мастерской посадки с последнего витка многовиткового штопора.
Виток, второй, пятый… И не выходя из шестого, машина врезается в Москву-реку. Фонтан брызг и полное молчание зрителей. Со старта срывается санитарная машина, через пару минут возвращается к группе во главе со Сталиным. И из нее вылезает… мокрый, с забинтованной головой, сконфуженный Алексеев:
— Товарищ народный комиссар обороны, летчик Алексеев потерпел аварию.
— Причина?
— Дождь, мокро, в последний момент сапог соскользнул с педали.
Может, конечно, Алексеев и просто ошибся в увлечении, да как тут ругать его? Ворошилов, однако, деланно хмурится, но тут к неудачнику широко шагает Сталин и пожимает ему руку. Потом молча обнимает. И снова самолеты уходят в воздух…
ПУСТЯК? Нет, стиль времени. Невольную ошибку особенно своему простить можно. Халатность даже своему нельзя. И уж тем более, нельзя простить вредительство и саботаж чужим. Но была ли экономическая контрреволюция явлением? Была. И еще каким!
Осенью 1918 года видный кадет профессор Карташев говорил в Гельсингфорсе (то есть в Хельсинки): «Мы уже не те кадеты, которые раз выпустили власть. Мы сумеем быть жестокими».
Кто же собирался быть жестоким в составе, скажем, кадетского подпольного Национального центра на территории РСФСР?
Вполне цивилизованные люди: инженер Штейнингер — совладелец патентной конторы «Фосс и Штейнингер», профессора Котляревский, Муравьев, Устинов, Сергиевский, Муралевич, Каптерев, Фельдштейн, бывший попечитель Петроградского учебного округа Воронцов.
Профессора-экономисты Плетнев, Букшпан, Кафенгауз были всего лишь «техническими экспертами» Центра.
Это Национальный центр готовил сдачу Петрограда Юденичу. И шанс у него был. В заговоре участвовали крупные военные, служившие в Красной Армии: адмирал Бахирев, начальник сухопутного отдела штаба Балтфлота полковник Медиокритский, начальник штаба 7-й армии полковник Люндеквист, начальник авиаотряда Еремин.
В министры-председатели правительства намечался профессор Технологического института Быков.
Директора Института экспериментальной биологии Кольцова мы знаем как генетика, «пострадавшего» в конце 30-х годов. А в 1920 году он был казначеем Национального центра, хозяином конспиративной квартиры и явки для курьеров Колчака и Деникина.