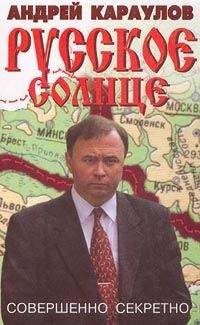Соланки, значит, обалдел; у него ж официальный визит, протокол, а тут выходит, что он ошибся адресом, не туда пришел. Ельцин посадил его за стол, выпили они, значит, за дружбу, вдруг Ельцин как заорет: «Не хотите договор? Ну и катитесь со своим Горбачевым к чертовой матери!» Вот, Евгений, какая дурь. Слушай, мы так Индию потеряем! И процесс этот уже пошел, разлетелся… митинг на митинге… то есть я, Горбачев, буду Президент без страны, а ты, Евгений Иванович, будешь полководец без армии!
Если Шапошников волновался, он зевал. На самом деле ему давно хотелось поговорить с Горбачевым по душам, предельно открыто, но в Кремле он был новичок и не знал, насколько здесь это принято.
— Дальше смотри, — продолжал Горбачев. — Америка против Ельцина, потому что Америка против распада, и мусульман, между прочим, держим только мы с тобой, а когда вырвутся… таджики, например… черт их знает, что они придумают — мусульмане же! Азейба-рджан сразу ляжет под Турцию, это ясно, армяне — пиз.. привет горячий, молдовы будут рваться в Румынию, они у нас оголтелые, сам знаешь, немцы уедут… ну это, допустим, черт с ними, — значит, здесь будет второй Ливан, так я чувствую.
Горбачев остановился, чтобы увидеть, какое впечатление он произвел на собеседника.
«Держава в говне, — подумал Шапошников. — А он… что, только сейчас все это понял?»
— Мы с тобой, Евгений Иванович, я вижу — союзники, вот ты и говори, что делать.
— А какое у вас решение, Михаил Сергеевич?
— Нет… ты скажи, ты.
— А что скажешь, Михаил Сергеевич?.. Я думаю, не так надо было из Германии уходить, — вот что я скажу.
— Нет, ты… погоди, — удивился Горбачев, — погоди про Германию, мы ж с тобой в перспективу глядим, хотя с Германией ошибка вышла, не все ж гладко, но ты пойми: кому я Германию отдал? Немцам. А Польшу? Кому? Полякам. Так что, я преступник, что ли, — ты скажи!
— С «Блек Джека» все началось… Самолет, который до космоса долетает, чудо-самолет… — а сократили…
— По «Блек Джеку» нужен отдельный разговор… нужен разговор. Ты, Евгений, я вижу, не все пока знаешь.
— А перспектива ясная, Михаил Сергеевич. Надо Союз спасать, вот главное.
— Как?
— Честно?
— Разумеется.
— Понятия не имею, Михаил Сергеевич. Нет способа. Не наше это дело, — поправился Шапошников.
— Способ есть, — сказал Горбачев.
Шапошников насторожился.
— А где Вадим? — вдруг вспомнил Горбачев.
Только сейчас Евгений Иванович заметил, что стол накрыт на троих.
Горбачев потянулся к телефону:
— Вадим пришел?
Комната была такая маленькая, что Шапошников хорошо слышал голос помощника:
— Вадим Викторович Бакатин, Михаил Сергеевич, в десять тридцать вошел в ваш кабинет.
— Погоди, а с-час сколько?
— Без четверти одиннадцать, Михаил Сергеевич.
— А… значит, он так там и стоит… Ты пойди… шугани его: пусть сюда идет, чего там-то торчать…
Вошел Бакатин — представительный мужчина пятидесяти лет.
— Разрешите?
— Разрешим, — сказал Горбачев. — Садись, Вадим, наливай чай. Мы вот с Евгением — не демократы, водку, видишь, не пьем.
Бакатин за руку поздоровался с Шапошниковым. «Держится уверенно», — отметил маршал.
— А демократы с утра водку не пьют, Михаил Сергеевич.
— Ну?! А что они делают?
— Демократ… он с утра интригует. Пока голова ясная.
— Тебе виднее, — засмеялся Горбачев.
— А я не могу быть демократом, Михаил Сергеевич, — Бакатин сел за стол.
— Ну?..
— Не могу. Газетка одна написала, что мне в Малом театре надо Скалозуба играть.
— А вот ты не знаешь, Вадим, — Горбачев откинулся на спинку стула. — Я пацаном был, в школе учился, а уже играл Арбенина у Михаила Лермонтова в пьесе «Маскарад». Так девочки, я скажу, стадом ходили, — вот какой успех был!
— А вы в курсе, Михаил Сергеевич, чем Арбенин от Яго отличается? — уверенно сказал Бакатин. — Яго, злодей, у Отелло под боком крутится, а у Арбенина — Яго в душе.
Бакатин выразительно посмотрел на Горбачева.
— Ты хоть сам-то понимаешь, что говоришь? — вскинул глаза Горбачев.
— Я так читал, Михаил Сергеевич, — вздрогнул Бакатин. — Люблю на ночь читать…
Наступила тишина.
— А я Крылова люблю, — поддержал беседу Шапошников. — Баснописца Крылова…
Все замолчали. Бакатин решил, что он сказал глупость, и сделал вид, что пьет чай — выпил стакан одним глотком.
— Ладно! — Горбачев резанул ладонью воздух. — Теперь к делу. В стране будем внедрять пост вице-президента. Премьера — нет, значит, нужен вице-президент.
«Это Бакатин», — сообразил Шапошников.
«Неужели Шапошников?» — подумал Бакатин.
— Я скажу так, — продолжал Горбачев, — это должен быть кто-то из силовых министров, может, ты, Евгений Иванович, или ты, Вадим, сейчас решим. Идея какая: новый вице-президент юридически сохраняет за собой пост силового министра, то есть руководит генералами. Не спорю, демократы разорутся, но Ельцина я беру на себя, это факт, хотя Ельцина не нужно списывать как опасность. Твоя кандидатура, Евгений Иванович, для демократов, думаю, предпочтительней… Ты как считаешь, Вадим?
— Абсолютно, — ответил Бакатин. — Поздравляю, Евгений Иванович.
— И мы спасаем Союз, — улыбнулся Горбачев. — Это я гарантирую.
Шапошников замер, — он не понял, что сказал Президент.
— Чаю, Михаил Сергеевич? — спросил Бакатин.
— Ты маршалу подлей. Что молчишь, Евгений Иванович?
Горбачев вцепился в него глазами.
— Так… неожиданно все, — сказал Шапошников. — Я в Москве-то всего год…
— Не боги горшки обжигают, — отрезал Горбачев. — А игра, я считаю, будет такая: ты, Евгений Иванович, делай, что считаешь нужным. Я ухожу в отпуск, допустим, по болезни, ты быстренько подтягиваешь своих генералов, у тебя ж все права, ты ж легитимен… а генералы у нас, сам знаешь, за порядок, за Союз, за дисциплину — генералы. Вот так, потихоньку, вы и берете все в свои руки, тут возвращаюсь я… а вы отходите в сторону… — это я сейчас в общем плане говорю.
— Не в сторону, Михаил Сергеевич, — выдавил из себя Шапошников. — Сразу в Лефортово.
— Ну, знаешь, — не подбрасывай подозрений! Мы, во-первых, сейчас только советуемся, во-вторых — ты не отрабатывай решение на личность, погоди. При чем тут Лефортово, если на время болезни Президента ты у нас царь и бог, власть у тебя, власть… и каждый, кто против тебя, тот против власти, понимаешь? Тут уж Вадим скажет свое слово — да, Вадим? Пойми, все хотят порядка, пора ж из реалий исходить… — и никто сейчас не говорит, что надо танки вводить… их уже вводили… — хватит. Поддержит Назарбаев… а если Назарбаева подтянуть в Москву, сделать его, как мы летом хотели, премьер-министром, это всех собьет с толку, — в момент! А тебя, Евгений, тут же поддержат автономии. Им права нужны… права… Почему, я спрашиваю, у татар меньше прав, чем у Казахстана, они что ж, не люди, татары эти, пусть хлебают свой суверенитет, пока давиться не начнут, жалко, что ли?
Теперь — Ельцин. Смотри, под ним же ни одной республики нет, он у нас голый король, голый… — ты ж подумай об этом! Ведь как: ты — всем даешь суверенитет, а он что… отбирать будет? Не будет… Или республики уже без нас, уже сами, своими силами с Ельциным разберутся! Главное — нбчать. И, я скажу, все по закону, гладко, с юристами вместе… страна ж в разнос пошла… это ж видеть надо!..
Бакатин молчал, — план Горбачева ему не понравился. А Шапошников встал, отодвинул стул:
— Разрешите, Михаил Сергеевич? Я сегодня же напишу рапорт об отставке!
Горбачев окаменел.
— Ну и дурак, значит, — выдавил он из себя.
Горбачева страдала. Здесь, в Центральной клинической больнице, в этих чужих, ужасно покрашенных стенах, она вдруг догадалась, что от нее, уже не молодой женщины, отвернулась жизнь — сразу, мгновенно, раз и навсегда. А ещё она чувствовала, что может умереть. Ее силы куда-то исчезли, ушли, но самое главное — испортилась кровь. По тому, как часто приезжал к ней Андрей Иванович Воробьев, лучший терапевт не только в России, но, может быть, и в Европе, просто по самим процедурам, по терапии, ей назначенной, было ясно — рак.
Палата, отданная Горбачевой в ЦКБ, была палатой Генерального секретаря ЦК КПСС: огромный четырехкомнатный люкс с двумя идиотскими кроватями через тумбочку.
Все было казенное, с полировкой. Неуютно, тоскливо, холодно, но не от погоды, от вещей.
Вдруг вспомнился Анри де Ренье — «от всего веяло грустью, свойственной местам, из которых уходит жизнь…».
Жизнь — уходила. Был страх.
Раиса Максимовна Горбачева: Нина Заречная и Елена Чаушеску в одном лице; грубое, невероятное желание быть первой женщиной мира и провинциальные вера — надежда — любовь с одним человеком («если тебе нужна моя жизнь, то приди и возьми ее…»). Она и сегодня, сейчас боялась не за себя, нет, Раиса Максимовна вообще не цеплялась за жизнь, ибо жизнь, счастье жизни никогда не измерялись для неё простым количеством прожитых лет: сейчас она боялась только за него, за своего мужа, за Михаила Сергеевича Горбачева. Она знала, что он смертельно устал, что он не спит без наркотиков, что он может сорваться и погибнуть, просто — покончить с собой, потому что в критические минуты (он так устроен) почва всегда — всегда! — проваливается у него под ногами. Раиса Максимовна не сомневалась, что как руководитель Михаил Сергеевич — обречен. Она всегда понимала больше, чем он. И она знала, что Ельцин его добьет, обязательно добьет, — Господи, как она боялась Ельцина! Но Раиса Максимовна Горбачева, одна из самых умных женщин в Советском Союзе, знала и другое: нельзя, нельзя вот так, без борьбы, отдавать Кремль, нельзя отдавать свою власть, ибо власть над такой страной — это жизнь в ином измерении. Потерять Кремль — это все равно что самой отрубить себе голову и так (с отрубленной головой) жить.