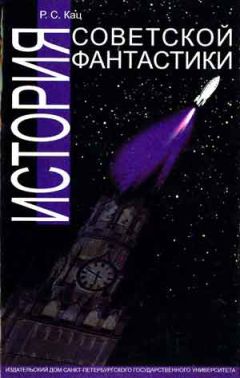Рывок получился, а замену народа потом нарекли «построением социализма» .
Исходная точка. Magna Charta и Яса Чингисхана
Характер и тип русской власти – столь же важный системообразующий элемент «русской колеи», как вечная война, сопровождаемая постоянной и повседневной милитаризацией, и как православие. Говоря современным языком, на одной стороне своей визитной карточки наша власть могла бы написать «насилие», а на оборотной – «оккупация», поскольку относится к населению собственной страны как к чужому, оккупированному. На становлении и утверждении такого типа власти на Руси, а потом и в России сказалось многосотлетнее, если не многотысячелетнее соседство на огромных просторах нашей прародины двух разных культур – «Леса» и «Степи», кочевого скотоводства и оседлости, воинов и хлебопашцев, а также феномен, вошедший в историю под названием Золотой Орды. В итоге контактов этих двух очень разных типов культур, после многочисленных войн и обоюдных заимствований, после противоборств, заговоров, измен, покорений и завоеваний сначала в Московии, а затем в России оказался более конкурентоспособным и восторжествовал тот тип власти, который принесли с собой кочевые народы – скотоводы и воины. Подобный тип власти следовало бы определить как ордынский: он столь круто замешен именно на нашей отечественной истории, что стал нашим. Ему, кроме упомянутых записей на визитке, неотъемлемо присущи моносубъектность (то есть самовластие), монолог вместо диалога, низменный диктат вместо переговоров, незнание компромисса, неприемлемость соглашения, договора как средства общения и, наконец, манихейство – отсутствие того, что Н. Бердяев называл «серединной культурой».
Расхождение Европы и России по двум цивилизационным направлениям, о котором как об историческом явлении заговорили на языке науки в XIX веке, началось много раньше. С некоторой долей условности можно сказать, что начала подобного процесса надо искать еще на протороссийском пространстве, а последствия его в виде двух разных направлений социальной динамики просматриваются уже с тех времен, когда на этом пространстве соседствовали Русь Литовская и Русь Московская. Их сосуществование и соперничество завершились – под влиянием Орды и ордынства – победой Московии и формированием на ее основе России.
Если предельно кратко определить главное, что различает эти два направления, то в одном случае им будет зарождение, а потом продолжительное становление свободы личности, а в другом – становление такого социума, в котором пространство для зарождения и становления личности неуклонно сужалось.
В одном случае – английские Magna Charta Libertatum («Великая хартия вольностей») и Habeas Corpus Act, в другом – «Великая Яса» Чингисхана. В одном случае – первичность личности и общества, в другом – государства и других институций. Вытекающие отсюда цивилизационные оппозиции можно перечислять дальше до бесконечности: демократия против авторитаризма, соглашение против насилия, диалог против моноцентризма, договор против произвола, горизонтальные связи в обществе против вертикали власти и т.п.
Мagna Charta датируется 1214 г. (то есть она была подписана за два десятилетия до вторжения Батыя на Русь). Целая группа свобод защищает в английском праве личность от государства. Свобода от произвольного ареста и наказания, от оскорбления, грабежа и насилия со стороны органов власти определяет содержание конституционных гарантий, за которые велась многовековая борьба с монархией. Такие гарантии нашли свое выражение в акте-символе, известном как Habeas Corpus.
Свою «Великую Ясу» Чингисхан обнародовал в 1206 г. Свод законов, определивший жизнь Орды, содержал преимущественно перечень наказаний за тяжкие преступления, а буквально «яса» означает по-монгольски «запрет».
Если ко всему этому добавить: утвердившийся и господствующий в России тип мыслительных привычек и стереотипов; тип социальной динамики, который нацеливает человека и конкретно-исторические человеческие сообщества преимущественно на воспроизводство ранее сформировавшихся ценностей, устремляет эти сообщества к идеалам прошлого, к господству прошлого над настоящим и будущим (и в культуре, и в социальных отношениях), – если учесть все это, а также и другие архетипические свойства русской культуры, то, может быть, сегодняшний разворот страны в ее русское и советское прошлое обретет хотя бы некоторое культурологическое, а не только сугубо конъюнктурное, обусловленное интересами путинской власти прагматическое объяснение?
Или другой, казалось бы, более отдаленный от культурологи вопрос: почему никак не получается диалог России и Европы о нашем с ней общем или совместном будущем?
Потому что мы озабочены совершенно разными реалиями и к тому же озабочены ими совершенно по-разному.
Разумеется, и в Европе не все озабочены и думают одинаково и исключительно об одном и том же – иначе у нее не было бы проблем со своей идентичностью. Евросоюз в последние годы расширился в два раза, его члены по-разному смотрят на европейскую перспективу, в частности, Турции и вообще на критерии «европейскости». «Старая Европа» непросто принимает «новую», едва-едва идет процесс выработки европейской Конституции и т.д. Тогда что же значит «о разном и по-разному» для нас и для Европы?
Европа переживает в первую очередь опыт, кризис и уроки ХХ века: европейские революции и распад колониальных империй, экономические кризисы, две мировые войны и локальные войны, «холодная война» и Карибский кризис. Словом, предмет европейской озабоченности – конфронтации, конфликты и, главное, способы их преодоления. Отсюда для Европы главный вопрос и основное направление поиска: из сегодня в будущее и – как жить вместе. Россия, однако, никак не может пережить окончание ХХ века, собственную «геополитическую катастрофу», распад СССР, и главные вопросы для нас: как не допустить дальнейшего расползания постсоветского пространства (включая собственно российское) и как обрести свое былое – то же «лидерство» России, но уже в современном мире. То есть Россия, как и Европа, озабочена реалиями прошлого, но если Европа озабочена тем, как преодолеть реалии европейского прошлого, как от них уйти, то Россия – тем, как к реалиям «войны миров» вернуться, как их обрести в новых условиях.
Как ни парадоксально для начала XXI века, Россия до сих пор не обрела себя как людское сообщество. Даже выйдя из непостижимо ужасного для нас ХХ столетия, потеряв в нем насильственно вычеркнутыми из жизни десятки миллионов (по некоторым подсчетам – около ста миллионов!), мы покинули и его, не распрощавшись с ним.
Не поняли, не осознали, не ужаснулись.
И это немудрено. Поскольку уцелевшим и вновь нарождающимся миллионам на всем российском пространстве для самостоятельной жизнедеятельности к XXI веку вообще уже не осталось места. Все просторы России за пять столетий войны самодержавия с собственным населением превратились в сплошное пространство власти. В таких условиях обретать себя, осознавать себя оказалось уже некому. Людское сообщество, как некая живая субстанция, лишено какой бы то ни было самостоятельности и субъектности, в нем уничтожена сама способность к рефлексии. Моносубъектом стала власть. Но и она, будучи инородной субстанцией по отношению к населению, оказалась способной лишь действовать, но не осознавать себя и свои действия. То есть в качестве моносубъекта в социуме власть может действовать и продолжает действовать, до сих пор руководствуясь лишь нерассуждающим разумом.
В самом конце ХХ века волею судеб, а не по причине чьей-либо субъективной воли, советская власть рухнула из-за своей трухлявости, и Советский Союз развалился из-за своей неестественной, ставшей совсем неуправляемой громоздкости. У России снова появился исторический шанс.
Именно исторический, потому что в России никогда раньше не было гражданского общества и никогда не было политической жизни. Они случались иногда в качестве зачатков, на переломах истории, и то лишь как кратковременные эпизоды, как возможные антиподы самодержавия. Но поскольку в качестве нормы для «Русской системы» они были не нужны, эта система и воспринимала их всегда чем-то чужеродным, и следовательно, предвестием грядущей беды. Неслучайно первый такой перелом в начале XVII века, когда едва только обозначились первые образования гражданского общества и начиналось нечто, издалека похожее на политику, вошел в русскую историю под названием «Смута». С тех пор так и повелось: любые внесистемные явления и уж тем более, не приведи господь, противосистемные воспринимаются еще на подсознательном уровне всеми внутри Системы как кара небесная, как разбушевавшаяся стихия. В «Медном всаднике» у Пушкина – это Нева, вышедшая из своих берегов и ворвавшаяся в не принадлежащее ей и не предназначенное для нее пространство. У Гершензона в «Вехах», как и у всей русской интеллигенции начала ХХ века – это гнетущее, внушающее смертельный ужас ощущение пропасти, отделяющей ее от народа: «Между нами и нашим народом – иная рознь. Мы для него – не грабители, как свой брат деревенский кулак; мы для него даже не просто чужие, как турок или француз: он видит наше человеческое и именно русское обличие, но не чувствует в нас человеческой души, и потому он ненавидит нас страстно, вероятно, с бессознательным мистическим ужасом, тем глубже ненавидит, что мы свои. Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом – бояться его мы должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной». Для Солженицына – тоже для человека Системы – начинавшиеся в конце 80-х – начале 90-х годов политическая жизнь и образования гражданского общества ассоциировались с «балаганными одеждами» Февраля семнадцатого, к которому он, в свою очередь, как к явлению русской истории относился с негодованием и брезгливостью. Для сегодняшних наших системных «либералов» самая ужасная перспектива – по-настоящему свободные выборы: ведь в результате таких выборов, если их допустить, к власти, по мнению «либералов», непременно придут левые.