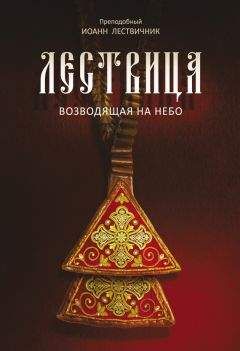И в этих словах весь новый разрушающий все прежние сцепления с жизнью Гоголь. Он вступает в полосу непрерывных превращений, резких переходов святого отшельника, дух которого, хотя и бродит среди людей, но солнцеподобные лики их в его потусторонности давят его рождение художника, и поэтому он для них находится в каталептическом состоянии экстаза, что совершенно необычно для тех же «французов, привыкших ходить по твердой земле». Но совершенно очевидно, что именно в это время Гоголь достигает «уразумения своей божественной миссии» именно в Париже в 1836 г.! Но именно в это время на 27 году жизни его талант обретает музыкальную страстность слова, густеющий мозг порождает свежие краски жизни, является на письме отвага оратора и философа земли русской. Не теряя сознания реальности, он осознает, что черпает силы художника из трансцендентного абсолюта, где таится и призвание его самого. Вот почему: «Довольно дураков!» и «пусть писатели начинают!» становятся для него девизом в плане преобразования жизни в России вообще. Неукротимый инстинкт правды переживает он в своем сладострастном открытии метода художественного письма, которого до него не было в Русской литературе и автором которого является уже только он сам, несмотря на бесчисленные ожидания им же «эшафотов читающей публики», которые ожидают его в будущем. И сам жизненный опыт уже не является для него опытом самого человека, но на свой страх и риск из трансцендентного страдания извлекается им как мастодонт за мастодонтом из ледяных пещер воображения, где «понять» — значит «быть и действовать».
Но внешне особенно ничто не указывает на эти могучие духовные преобразования личности. Он ежедневно после обеда берет уроки разговорного итальянского языка, ввиду предстоящего путешествия в Италию. Политика его не интересует. В Париже — все политика — «в нужнике дают журнал». Равнодушным становится он и к уже написанным им произведениям, а на сообщение о том, что в России успешно ставят «Ревизора» реагирует как на что-то его совершенно не волнующее и даже раздражающее: «Я, право, не понимаю этой загадки. Во-первых, я на «Ревизора» — плевать, а во-вторых — к чему это? Если бы это была правда, то хуже на Руси мне никто бы не мог нагадить». Он уже считает все написанное им «маранием», от которого долгого «забвения просит душа», а важным занятием считает успехи во французском языке, который хорошо начинает понимать, чтобы следить за театрами. Эта минута пути, в которой преображения самого себя для окружающих являет прилежного великовозрастного приготовишку, сопровождаемая овеществлением себя в окружающей жизни с отрицанием пройденного духовного пути, эта минута жизни, в которой обретается стержень всей будущей духовной жизни, где творчество является лишь частью этого гигантского айсберга познания людей в их вере и стяжании духа, эта минута жизни являет нам в Гоголе и его трагедию духа и величие его жизненного подвига как драмы, итогом которой и оказываются «Мертвые души».
И благочестивость и лицемерие — все, что содержит в себе человек, — для Гоголя заключает в себе смысл человеческой природы как природы, олицетворяющей в себе божество. И уже поэтому он любит Россию, русскость и русское, а сострадание, благочестие и самоотречение — три благодатных плода православия — теперь навсегда будут стоять в экстатически расширенных зрачках писателя, что зафиксировал для потомков позднее художник Моллер.
С этого момента он уже чувствует себя пророком, а его жизнь постепенно, зарастая густейшим волосом домыслов, преобразуется в миф, в которых черты его характера обретают для тех, с кем он встречался большей частью неприятные и даже пренебрежительные для человека оценки, по существу иллюстрируя всю ту дрянь, которой начинены чемоданы душ, не внимающей магии повсюду разлитого света, исходящего не от человека, но его творчества.
Встречи в Париже с поэтами Мицкевичем и Залесским, проходившие на малороссийском языке, откладывают его отъезд в Рим. А тут еще новая беда. Он узнает, что «Пушкин в этом мире более не существует…». А. Н. Карамзин отмечает: «Трогательно и жалко смотреть, как на этого человека подействовало известие о смерти Пушкина». Это была трагедия. «Когда я творил, я видел перед собою только Пушкина» — писал он М. П. Погодину 30 марта 1837 г.
Я бездомный, меня бьют и качают волны,
и упираться мне только на якорь гордости,
которую вселили в грудь мою высшие силы.
Гоголь — М. П. Погодину, 30 марта 1837 г.
С этого момента у Гоголя усиливается интуиция и мощность мистических прозрений. Культ Пушкина в его сознании становится своеобразной формой созерцания верховного существа, высшие силы которого теперь уже неразрывными узами связаны с его сознанием. В Пушкине он как бы обретал бога живого, но не смысле обычного поклонения, а бесконечного признания сопричисленности Пушкина к лику богов. Теперь же после его смерти, сама смерть Пушкина становится для Гоголя формой посвящения его самого в литературные небожители, которых опекают высшие силы. Впереди еще несколько таких знаковых уходов из жизни, которые Гоголь будет переживать как свою собственную смерть и которая после нескольких таких «упражнений духа» станет и для него свершившимся фактом. Сейчас же он раздираем между любовью к тем местам, которые покинул — к «бедному и неяркому миру курных изб». Но невозможен возврат на Родину. В чужой земле он готов даже ходить с протянутой рукой, «если дело дойдет до этого», но никогда в своей стране, куда и возвратиться нельзя, поскольку длительный моральный кризис еще не прошел, а только разгорается в своем ярком исступлении, пока гордость еще не иссушилась и не превратилась в мелкий порошок смирения: «…ехать, выносить надменную гордость безмозглого класса людей, которые будут передо мной дуться и даже мне пакостить, — нет, слуга покорный».
И в марте 1837 г. как раз к празднику Пасхи, он уже в церкви св. Петра, где обедню отправляет сам папа. Накаты ипохондрического синдрома усиливаются пропорционально таянию денег в кармане, а с протянутой рукой в местную журналистику он ни под каким видом идти не желает, «хотя бы умирал с голоду». Поэтому он думает, думает, но ничего лучше придумать не может, "как прибегнуть к государю. Он милостив". Здесь он рекомендует Жуковскому показать Николаю I его повести: «Старосветские Помещики» и «Тарас Бульба». Император на все про все выделяет вскоре ежегодную пенсию в размере 4000рублей ассигнациями и, схватившись за бока, слушая письмо Гоголя к Жуковскому, сказал: «пусть он напишет ко мне еще такое письмо, — я ему дам еще четыре тысячи». А пока Гоголь живет на Via Felice Љ 126,в четвертом этаже под именем signore Nicolo. На два года к нему приезжает Шевырев, заезжает Жуковский, он постоянно общается с сыном историка Карамзина Андреем Николаевичем, который тут же замечает про себя: «жаль, очень жаль, что не достает в нем образования, и еще больше жаль, что он этого не чувствует», день его рождения в 1838 г. отмечается на вилле княгини З. А. Волконской, которую еще не успели обобрать патеры и монахи, и которая еще помнит интимную благосклонность к ней и Александра I, и Мицкевича, и Пушкина…,но которая теперь уже живет в католическом боге. Шевырев читает стихи, посвященные Гоголю…Жизнь имеет свои преимущества в движении. Репнины, Балабины, добрая душа — Александра Осиповна Смирнова… Среди них Гоголь как свой, и они «не дают умереть ему с голоду». Рим! Прекрасный Рим! Гоголь в восторге от картин А. А. Иванов, который вот уже с десяток лет пишет «Явление Христа народу». Они неразлучны. Данилевский теперь тоже здесь. Гоголь варит козье молоко с добавлением туда рома и, смеясь, добавляет: «Гоголь любит гоголь-моголь». У него чрезвычайный аппетит. И они непрерывно устраивают в «ресторанных храмах жертвы», после которых «ипохондрия гонится за ним по пятам, а геморроидальные запоры препятствуют думать и туманят мысли».
Лучшим лекарством оказываются набеги Данилевского и Гоголя из Рима в Баден, Франкфурт для встречи с масоном Александром Ивановичем Тургеневым, Лозанну, где успокаивающийся по жизни Мицкевич вскоре получает кафедру древних литератур.
И новые возвращения в Рим, где «залезает в свою дыру», т. е. одну из трех комнат, уставленных бюстами и картиными, и проводит в работе над первым томом «Мертвых душ» «безвыходно несколько дней», а, иногда, усевшись за столик трактира, достает свой видавший виды портфель «забывается удивительным сном» и пишет целую главу, не сходя с места. Бездомный скиталец, только в одиночестве и только вне отечества возвращается в исходную точку художественной веры, порождающей в нем силу христианского православия, которое никогда его не покидало (даже в задушевных беседах с патерами у княгини Волконской). При закрытых окнах и запертых дверях ему уже нет свободы с того пути, по которому он начинает идти и потому хотел бы видеть проявление религиозности и в других людях. Он пьет воздух Рима и не напьется. В душе небо и рай. Но спасение человека в другом мире. При мысли о Петербурге мороз проходит по его коже. Но все свои поступки надо оплачивать. Когда-то, во время обучения будущего императора Александра II, взяли к нему в товарищи Паткуля да графчика Иосифа Виельгорского. Это товарищество нужно было как шпоры ленивой лошади. Впервые с Гоголем молодой граф Иосиф встретился 20 декабря 1838 г. Молодой граф умирал от чахотки, несмотря на заботливый уход знаменитых врачей. И уже после того как началось открытое кровохарканье бессонные ночи у одра больного проводит… Гоголь. Он нянька и живет днями умирающего и ловит его минуты. «От него на меня несет запахом могилы», — пишет Гоголь М. П. Балабиной 30 мая 1939 г. Он очень и слишком занят своим больным, но «вечно благодарит Бога», что в нем «случилась эта надобность» и держит тарелку, когда умирающий кушает. В это же время мать Иосифа Виельгорского Луиза Карловна, урожденная Бирон, когда Гоголь ей сообщил о смерти сына, накрыла лицо шалью и просидела в неподвижном положении двое суток. И когда ей Гоголь сказал: «Бедный Иосиф! Он умирал без матери», — то она разрыдалась. Эти рыдания происходили на пароходе, где путешествовала семья Виельгорских, и куда Гоголь привез «неутешного отца». И с этих пор мягкие складки лоснящихся щек Виельгорских были достаточно близки от щек писателя Гоголя. Но когда младшей из сестер Анне Михайловне, единственной женщине, в которую был влюблен Гоголь, последний сделал предложение, то, разумеется, последовал отказ семьи, а Нози, как ее звали в семье, вышла замуж за одного из богатейших людей России — князя А. И. Шаховского.