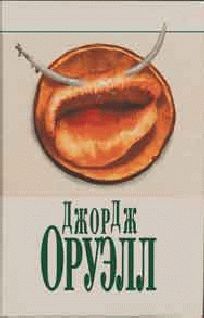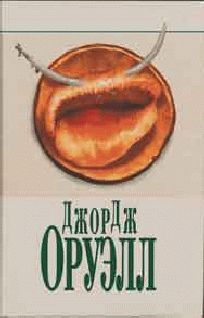Когда в «Трехгрошовой опере» эпоха нашла свое законченное выражение, когда всех без исключения, объединив противоборствующие силы, захватил лозунг «Сперва жратва, а нравственность потом», во мне стал назревать протест. До сих пор соблазн остаться в Берлине был велик. Казалось, я блуждал в хаосе, которому не было конца. Ежедневно новое вытесняло старое, которое еще три дня назад считалось новым. В море хаоса мертвыми островками плавали вещи, даже люди становились вещами. Это называлось новая вещность или новая деловитость. По-иному и быть не могло после затянувшихся ламентаций экспрессионизма. Но при всем том здесь умели жить независимо от того, чему отдавалось предпочтение — все еще ламентациям или уже деловитости. Если новичок, прожив в Берлине несколько недель, не впадал в растерянность, а сохранял ясную голову, он считался дельным человеком и получал заманчивые предложения, побуждавшие его остаться в этом городе. Здесь любили новеньких, хотя бы уже потому, что таковыми они оставались недолго. Их встречали с распростертыми объятиями, но тут же начинали высматривать других, идущих следом, ибо существование и процветание этого на свой лад великого времени зависело от постоянного притока нового. Ты еще ничего собой не представляешь, а тебя уже используют, тебе приходится вращаться главным образом среди тех, которые недавно тоже были новичками.
Старожилами считались те, у кого была «порядочная» профессия. Самой порядочной — причем не только в моих глазах — была профессия врача. Ни Дёблин[182], ни Бенн[183] не относились к фигурам заурядным. Работа отвлекала их от каждодневной непрекращающейся саморекламы. Того и другого я видел редко и вскользь и не мог бы рассказать о них ничего существенного. Но я обратил внимание, в каком тоне о них говорили. Брехт, не считавшийся ни с какими авторитетами, имя Дёблина произносил с величайшим уважением. Я крайне редко видел его неуверенным; тогда он говорил: «Об этом мне надо посоветоваться С Дёблином». Это звучало так, будто Дёблин был мудрецом, у которого Брехт спрашивал совета. Бенн, симпатизировавший Ибби, был единственным, кто к ней не приставал. Она подарила мне полученную от него новогоднюю открытку. Он желал ей в новом году всего того, что может пожелать себе молодая красивая девушка, и перечислял пожелания. Среди них не было ничего, о чем Ибби когда-нибудь мечтала. Он судил о ней по внешности и не менял своего суждения. Создавалось впечатление, что открытку, не имевшую ничего общего с Ибби, написал уверенный в себе, полный нерастраченных сил человек.
В качестве «новичка» я мог бы остаться, и внешний успех был бы мне обеспечен. Этой среде нельзя было отказать в известном великодушии. Да и трудно было сказать «нет», когда тебя с такой теплотой и настойчивостью уговаривали остаться. Я попал в неловкое положение: все желали мне добра, более того, из рассказов Ибби я знал о каждом такое, о чем остальные даже не догадывались. Ей были известны их самые смешные стороны, ее наблюдательность не ведала жалости и не терпела неточности, в ее рассказах никогда не было фальши или приблизительности, то, чего она не видела собственными глазами или не слышала собственными ушами, для нее просто не существовало. Ибби была вожделенным свидетелем, она могла рассказать больше других, потому что умела оставаться независимой.
Я держался за нее в те недели после премьеры, когда во мне стало крепнуть желание бежать. Мне надо вернуться в Вену, говорил я, чтобы сдать экзамены, тогда весной я смогу получить докторскую степень. Так планировалось с самого начала. А летом следующего года я вернусь в Берлин и решу по обстоятельствам, что делать дальше. Ибби не была сентиментальна. «У тебя нет прочных привязанностей, — сказала она. — Ты на это просто не способен. С этим у тебя обстоит точно так же, как у меня с любовью». Она хотела сказать, что никому еще не удавалось заморочить ей голову, взять ее лестью или принуждением. «И с предстоящими экзаменами ты ловко придумал, — добавила она. — Люди искусства тебя поймут! Это же никуда не годится: четыре года мучиться в лаборатории и не стать доктором! Черт знает что!»
У Ибби был запас стихотворений, которого ей с избытком хватит на год, многие я отредактировал, придал им немецкую форму. Сигаретный фабрикант, который присутствовал при обсуждении стихов, положил ей на год ежемесячную стипендию, деньги приходили уже дважды, каждый раз в сопровождении вежливой, почтительной открытки.
Как я и ожидал, она легко меня отпустила. Между нами не было близости, мы даже ни разу не поцеловались, но нас связывали живые люди, те, о ком она мне рассказывала, целый лес людей, который продолжал расти и о котором мы оба не могли забыть. Мы не любили писать письма, ни она, ни я. Конечно же, она иногда писала мне, и я писал ей, но это были пустяки, они не шли ни в какое сравнение с нашими встречами, с ее рассказами.
Потом, через три недели после премьеры, случилась эта вечеринка в пустой квартире, которая повергла меня в шоковое состояние и разрушила очарование ее рассказов.
Я начал стесняться того, что она рассказала мне о других. Мне стало ясно, что она нарочно разжигала мужчин, чтобы было о чем мне рассказать. Когда, наконец, я обнаружил, что свежесть, неповторимость и точность ее «донесений» напрямую связаны с провоцированием мужчин на нелепые поступки, что она дирижировала хором голосов, которые я так любил слушать, когда я окончательно уяснил для себя, что никогда, в буквальном смысле слова ни разу мне не довелось слышать от нее ни одного доброго слова о ком бы то ни было, и все из-за ее боязни показаться скучной, я вдруг почувствовал к ней антипатию и предпочел ее насмешкам молчание Бабеля.
Последние две недели в Берлине мы виделись ежедневно. Я приходил к нему один и чувствовал себя свободнее, да и ему, как мне кажется, так было приятнее. Я узнал от него, что можно очень долго вглядываться и не замечать ничего особенного, что лишь много позже выяснится, знаешь ли ты хоть что-нибудь о человеке, за которым наблюдал, выяснится тогда, когда этот человек уже исчезнет из виду; что увиденное и услышанное можно запомнить неосознанно, что все это будет покоиться в тебе в целости и неприкосновенности, если ты не злоупотребишь накопленным для развлечения других. И еще я научился у него тому, что после долгих лет учебы у «Факела», видимо, было для меня еще важнее: мне открылось убожество осуждения и проклятия, превратившихся в самоцель. Я усвоил его манеры наблюдать за людьми: долго, пока они не исчезали из виду, ни слова не говоря об увиденном; я усвоил его неторопливость, сдержанность, молчаливость, его умение придавать значение тому, что открывалось его взгляду. Он не уставал наблюдать, это было его единственной страстью, да и моей тоже, только моя была еще неопытной, неуверенной в себе.
Я думаю, нас связывало слово, которое мы ни разу не произнесли, оно пришло мне на ум сейчас, когда я вспоминаю о Бабеле. Это слово — «учение». Он был буквально одержим жаждой учения. Он рано начал учиться и относился к учению с глубоким благоговением, оно разбудило в нем, как и во мне, страсть к познанию. Но его жажда познания была целиком обращена к людям. Чтобы изучать их, ему не нужен был предлог, он не ссылался на необходимость расширения знаний, на пользу дела, на целесообразность или на далеко идущие планы. Именно в это время я тоже всерьез повернулся лицом к людям и с тех пор большую часть своей жизни занимаюсь их изучением. В ту пору я еще убеждал себя, что занимаюсь этим во имя той или иной цели, которую я перед собой ставил. Но когда все другие предлоги рассыпались в прах, у меня осталась единственная цель — ожидание, для меня было архиважно, чтобы люди и я сам стали лучше, поэтому я должен был знать обо всех как можно больше. Бабель с его громадным жизненным опытом, хотя он и был старше меня всего на одиннадцать лет, давно прошел через это.
Он изучал человека не потому, что мечтал его усовершенствовать. Я чувствовал, что эта мечта была в нем такой же неутолимой, как и во мне, но его она никогда не толкала к самообману. Он изучал людей независимо от того, радовало его это, мучило или угнетало, изучал, потому что не мог иначе.
1980
Музиль всегда был готов к отпору и нападению, хоть внешне это и не бросалось в глаза. Он постоянно был начеку. Поневоле возникала мысль о защитной броне, но верней тут будет слово «скорлупа». Он не надевал на себя эту оболочку, ограждавшую его от мира, — она к нему приросла. Междометий он в речи не допускал, чувствительных слов избегал; всякого рода любезность казалась ему подозрительной. Рамки, в которые он поставил себя, распространялись на все вокруг. Неразборчивость и панибратство, словоизлияния и чрезмерность чувств были ему чужды. Это был человек твердого состояния, все жидкое и газообразное ему претило. Он знал толк в физике, и не только знал, она вошла в его плоть и кровь. Трудно, пожалуй, назвать другого писателя, который был бы до такой степени физиком и пронес это свойство через все свое творчество. В разговорах о том, о сем он не участвовал; попав в компанию тех любителей поболтать, от которых в Вене нигде не укрыться, он замыкался в своей скорлупе и помалкивал. Зато он чувствовал себя своим среди ученых и с ними держался естественно. Он считал, что как исходные позиции, так и цели должны быть определенными. Всякие извилистые пути казались ему отвратительными и достойными презрения. Но это отнюдь не означало ориентации на простоту, своим безошибочным инстинктом он чувствовал, насколько она недостаточна, и его тщательные описания не оставляли от нее камня на камне. Слишком изощренным, слишком деятельным и острым был его ум, чтобы довольствоваться простотой.