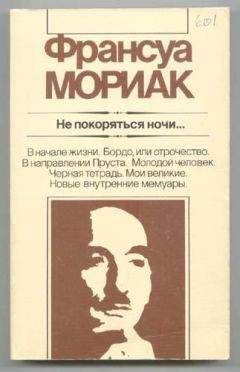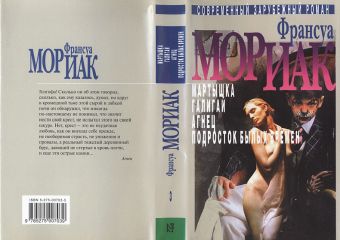Для чистых радостей открытый детству рай 1.
1 Ш. Бодлер. Цветы зла. М., «Наука», 1970, с. 98. (Пер. В.. Левика.)
Критика критики
Если верить моим собратьям по перу, они не читают ничего, что печатается по поводу их произведений. Что до меня, то ни время, ни привычка не смогли притупить удовольствие, которое я испытываю, пробегая ежеутренне вырезки из периодики. Думаю, что я не вношу в разбор их ни малейшего авторского самолюбия: мне случается не дочитывать дифирамбов и перечитывать дважды или трижды абзац со злейшими нападками, если он проливает хоть сколько-то света на мое произведение, на меня самого или на личность критика.
Едва ли стоило бы строить иллюзии по поводу писателя, который, прожив полжизни, не приобрел бы способности судить своих собственных судей без всякой предвзятости и не извлекал бы пользы из множества противоречивых суждений, атакующих его каждое утро.
И вот я стараюсь прислушиваться ко всем своим критикам — за исключением тех немногих, которые судят нечестно, потому что подвластны страсти, к литературе отношения не имеющей: мы убедились по опыту, что в такой-то или такой-то газете статья, нам посвященная, неизменно со всей точностью фиксирует температуру наших отношений с той партией, органом которой эта газета является.
При потреблении критики в больших дозах (а мне последнее время приходится поглощать как раз такие), несмотря на разнообразие противоположных оценок, создается четкое впечатление: за примечательными исключениями, то, что критик осуждает и отвергает, как раз и составляет самую нашу суть, то, что свойственно только нам.
В этом смысле весьма знаменательно почти полное единодушие критиков, упрекающих одного известного мне автора за выбор персонажей. Герой «Черных ангелов» Габриель Градер сродни персонажам Карко * с их свободой от всех предрассудков. Выведи его Карко, такой персонаж никого не испугал бы, показался бы человеком почти обычным, потому что его случай никак не был бы связан с вечностью. «Мсье Франсис» наделен уникальным даром — он так напишет торговца наркотиками, сутенера, шантажиста, что те покажутся нам знакомыми и близкими. В моем же случае критикам становится не по себе из-за того, что всем своим персонажам я придаю невольно некую устремленность в область метафизического. Я — метафизик, работающий с конкретным материалом. Благодаря некоторому умению воссоздавать атмосферу я пытаюсь сделать ощутимым, осязаемым, обоняемым католический мир зла. Я претворяю во плоть того самого грешника, абстрактное представление о котором дают нам богословы.
Стало быть, когда критик упрекает меня за выбор персонажей, упрек его бьет мимо цели: персонажи мои — такие же люди, как у всех. На самом деле ему следовало бы ополчиться против меня самого, ведь не кто иной, как я, повинен в том, что любое человеческое существо у меня под пером сразу же становится типом, который внушает чуть ли не ужас и которому нет оправданий, — персонажем Мориака.
И точно так же, когда критик решает, что вы не являетесь истинным романистом и роман ваш совсем не то, что настоящий роман, когда он противопоставляет вам, дабы стереть вас в порошок, Бальзака и Достоевского, все то, чего он не приемлет, оказывается как раз тем, что отличает вас от этих великих старцев, — иными словами, это и есть ваша суть.
Вполне законно заявить писателю, притязающему на то, что он написал трагедию в духе классицизма: «Ваша трагедия не отвечает канонам классицизма, поскольку в ней меньше пяти актов и не соблюдено правило трех единств»; но в равной же мере бессмысленно устанавливать каноны романа, исходя из творчества Бальзака, Толстого или Флобера, и изгонять из предела жанра всякое произведение, расходящееся с образцом, за коим критик собственной своей властью утверждает звание «настоящего романа».
Как раз это отличие, это расхождение и дает писателю шанс выжить в литературе. Да не подумают, что во мне говорит тщеславие: на мой взгляд, всякая литературная эпоха выбрасывает за борт избыточный груз в виде романов, и, следовательно, для каждого из нас шанс выжить в литературе ничтожен. Но если бы мы удостоились счастья дожить до отдаленного будущего, это оказалось бы возможным благодаря как раз тому в наших произведениях, что несводимо к общему знаменателю, что составляет исключительно нашу собственность, пусть это даже недостатки, ограничивающие нас и мешающие нам дорасти хотя бы до щиколотки великих предшественников.
Никто сегодня не подумает упрекнуть Мане за то, что он писал в манере Мане. Но при жизни Мане все упрекали его за то, что он — Мане. «Когда же наконец г-н Икс покажет нам счастливых влюбленных, персонажей нормальных и добродетельных? Когда же начнет он писать длинные романы, как Достоевский? Когда же займется общественными вопросами? Когда же отучится от своей торопливости? Когда же наконец выработается у него другая манера, взамен его собственной?»
Такого рода упреки и требования в той или иной степени всегда производят на писателей впечатление (особенно, когда какой-нибудь критик заявляет сурово и притом в разговоре, как случилось на днях со мною: «Ваша книга рассказала мне о вас такое, о чем я и не подозревал». Хотя у меня не хватит сил задушить человека, я инстинктивно спрятал руки в карманы). Да, частенько под впечатлением статей моих критиков я подумывал, а не написать ли мне историю какой-нибудь святой девочки — этакой сестрицы Терезы Мартен *. И когда Моцарт отворил мне врата своего рая, я размечтался — а вдруг по воле его в мои произведения впорхнут ангелы не из разряда черных. Но как только я сажусь за работу, все окрашивается в вечные мои цвета; самые привлекательные из моих персонажей оказываются освещены неким сернисто-желтым светом, характерным для меня; я не защищаю его, просто-напросто он — мой.
«Г-н Мориак подписал приговор, согласно коему обрек себя навечно оставаться г-ном Мориаком», — написал недавно по поводу последней моей книги некий простодушный юный критик. Смертный приговор? Нет, обещающий жизнь или, вернее, шанс выжить в литературе. Ведь средство литературного спасения для автора — если он достоин спасения — в абсолютной невозможности для него быть кем-нибудь, кроме самого себя. Художник, который может быть не собою, а кем-то другим, который работает поочередно в манере то одного, то другого живописца или писателя, обречен заранее; как ему уцелеть во времени, если он не существует? Что до меня, то степень грозящей мне опасности такого рода я ощущаю в зависимости от того, какую роль играет в том или ином моем сочинении мой авторский произвол (порожденный самоограничением, боязнью вызвать негодование и т. п.).
Итак, по-моему, хорошим критиком можно назвать того, кто судит о писателе, отнюдь от него не требуя, чтобы тот был не самим собою, а кем-то другим, но вглядывается в исследуемое произведение, стараясь понять, сумел ли автор сохранить верность законам созданного им мира, пользовался ли он лишь собственными природными дарованиями, не прибегнул ли к определенным рецептам, к определенным модным приемам. Критик должен требовать прежде всего, чтобы романист не отрекался от самого себя, чтобы он не пыжился кому-то в подражание. На мой взгляд, не пристало критику прибегать к невыгодным сопоставлениям, дабы успешней разделаться с анализируемой книгой: ведь задача любого художника не в том, чтобы следовать по стопам великих мастеров, но в том, чтобы выявить полностью собственный скромный дар. Хороший критик — тот, кто требует от нас одного: чтобы каждый художник стремился до конца осуществить в творчестве свои возможности, не пытаясь выйти за их пределы. Нет такого универсального правила, которое позволяло бы критику выносить нам смертные приговоры. Хороший критик, изучая определенного автора, не станет искать пробный камень вне его творчества.
Когда книга не удалась — в том случае, если речь идет о настоящем писателе, — это случается всегда не потому, что писатель этот нарушил то или иное требование жанра (не существует никаких правил, с помощью коих можно было бы написать хороший роман), а потому, что он изменил тому внутреннему своду законов, который позволил Колетт написать «Шери» *, а Шардону — «Сентиментальные судьбы» *; и равным образом свод законов, созданный Колетт, не имеет ни малейшей ценности для Шардона; если бы Колетт отважилась окунуться в стихию этого романиста, она задохнулась бы. Пусть нас судят и пусть выносят приговор не в нашу пользу, если необходимо; но пусть судят нас по нашим собственным законам.
Еще несколько замечаний по поводу критики
Г-н Робер Бразийак * согласен со мною, что долг критика, исследующего произведение, — запретить себе уничтожать оное убийственными сравнениями с книгами писателей масштаба Бальзака или Толстого. Но, по его словам, критику никак не избежать такого рода сопоставлений, если он пытается определить место, которое какой-либо современный автор займет в литературе, поскольку, как полагает господин Бразийак, задача критика состоит в том, чтобы предугадать приговор потомства.