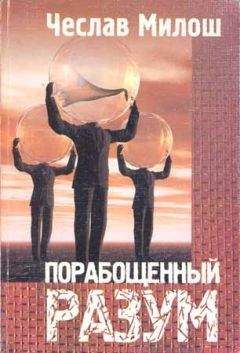Только слепые могут не видеть трагической ситуации, в которой оказался человек, когда захотел взять свою судьбу в собственные руки и устранить случайность. Он покорился Истории, а История — это жестокое божество. Приказы, которые исходят из уст божества, — это голос хитрых жрецов, укрытых в его пустом нутре. Глаза божества так сконструированы, что они видят всюду, куда бы ни двинулся человек; от них нельзя спрятаться. Любовники в постели совершают обряды любви под его ироничным взглядом; ребенок играет в песке, не ведая, что его дальнейшая жизнь взвешена, подсчитана, включена в общий счет; только старцы, которым немного дней осталось до смерти, могут с известным основанием утверждать, что они почти уже вырвались из-под его власти.
Философия Истории, излучаемая из Москвы, — это философия — сила; она преображает массы, она имеет в своем распоряжении танки и самолеты. Против того, кто не хочет ее признать, обращается сокрушительная мощь государства. Его атакуют также изнутри: говорят, что его сопротивление вызвано классовым сознанием. (Подобным образом тот, кто не хочет поддаться психоаналитическим процедурам, может быть обвинен в том, что он намеревается таким путем сохранить свои комплексы.)
А ведь нетрудно представить себе день, когда миллионы людей, послушных этой философии, вдруг обратились бы против нее. Такой день наступил бы, если бы Центр утратил материальную силу. Не только потому, что исчез бы тогда страх перед военным могуществом; прежде всего потому, что в этой философии успех — неотъемлемая часть мышления; поражение обнаружило бы ложность искусственной диалектики, которая была бы побеждена действительностью. Граждане Империи Востока ничего так не жаждут, как освобождения от террора, который осуществляет их собственная мысль.
В здании Центрального Комитета стратеги передвигают флажки на карте сражения за господство над умами. Успехи все больше, все более ширится красный цвет, который сначала — в 1944 и 1945 годах — ограничивался маленькой группой правоверных, прибывших с Востока. Однако мудрецы — тоже люди. Их тоже посещают тревога и страх. Сравнивая себя с первыми христианами, а шествие Новой Веры по планете с шествием христианства в разлагающемся Риме, они завидуют апостолам, имевшим дар проникать в глубь людских сердец. «Эти умели пропагандировать! Где уж нам до них!» — воскликнул с горечью один партийный сановник, слушая Евангелие, передаваемое по радио. Новая (анти)религия делает чудеса: показывает сомневающимся новые здания и новые танки. А если бы чудес не стало? В руках, которые рукоплещут, появились бы ножи и пистолеты; пирамида мысли рухнула бы. Там, где она возвышалась, долгое время не было бы ничего, кроме крови и хаоса.
«Если ты вечно будешь думать об этих своих балтах и о лагерях, то знаешь, что будет? — спросил меня в Варшаве мой друг, с недавних пор безоговорочно преклоняющийся перед диалектической мудростью Центра. — Ты доживешь свой век и станешь перед лицом Зевса, а он вытянет к тебе палец — тут мой друг сделал грозный жест указательным пальцем — и крикнет: Идиот! Ты потратил жизнь на глупости!»
Это правда, что мне трудно освободиться от мысли о балтах. Но кое-что я могу сказать в свое оправдание. Заниматься судьбой народов, тела которых растоптал слон Истории, — это свидетельствует о сентиментальности и ни к чему, в общем-то, не приводит, с этим я могу согласиться. Бешенство, обуревающее меня при чтении записок шестнадцатого века, в которых авторы — преимущественно священники — описывают невероятные жестокости испанских конкистадоров в Америке, бесполезно. Оно не воскресит карибов, истребленных губернатором Понсе де Леоном[198], оно не подаст горсть еды беглецам из страны инков, преследуемым в Кордильерах рыцарями, воюющими верой и мечом. Побежденных покрывает забвение, и тот, кто слишком усердно вчитывался бы в реестр преступлений минувшего, а еще хуже, мысленно представил бы эти преступления в подробностях, поседел бы от ужаса или стал бы совершенно равнодушным. Что территория, именуемая Восточной Пруссией, была когда-то населена народом пруссов[199], которых постигла от руки говорящих по-немецки почитателей Иисуса такая же участь, какая постигла карибов, — это историкам известно, но в словах историков нет отчаяния матерей и страдания детей, что, может быть, и правильно. Цивилизация, именуемая христианской, была воздвигнута на крови невинных. Благородное возмущение теми, кто сегодня пробует создать иную цивилизацию, пользуясь подобными средствами, не лишено фарисейства. Картотеки преступлений будут храниться в укромном и безопасном месте, а когда ученый будущих времен доберется сквозь пыль и паутину до этих томов, он сочтет эти действия мелкими проступками по сравнению с огромностью совершенного дела. Еще вероятнее, что этих картотек не будет вовсе, потому что в соответствии с прогрессом теперешние властители сделали выводы из простой истины: то, что не существует на бумаге, не существует и в действительности.
Допустим, что так будет. Однако же наше отношение к современности отличается от нашего отношения к прошлому — независимо от того, считает ли это кто-то пороком или достоинством. Живого человека, хотя бы отдаленного на тысячи километров, не удается так легко изъять из памяти. Если его пытают, голос его доходит по меньшей мере до тех, которые (что вовсе не является для них удобным) имеют живое воображение. А если даже этот человек уже погиб, то это по-прежнему все еще современность, потому что тот, кто его убил или отдал приказ убить, сидит в каком-то пункте земного шара за столом, на столе хлеб, ветчина и чай, а его дети радуются принесенному им подарку. Требование смотреть на современность как на прошлое и, не переживая, как говорит мой друг, из-за глупостей, рассматривать в исторический телескоп созревающие плоды будущего — суровое требование. Есть, пожалуй, какая-то мера, от которой нельзя отказаться, потому что в противном случае созревающие плоды будущего окажутся гнилыми. Я так думаю потому, что последние две тысячи лет видели не только наемных убийц, конкистадоров и палачей, жили и действовали также люди, для которых зло было злом и таковым должно было быть названо. Эпидемии массовой резни, террор революций, безумие золота, нищета трудящихся классов — да, но кто знает, до каких пределов дошли бы эти бедствия, если бы каждый считал, что нужно молчать и принимать все это. Мне кажется, что, не желая принимать, я лучше защищаю плоды будущего, чем мой друг, который приемлет. Я беру на себя риск ошибиться и плачу за это. Если бы я не шел на этот риск, то вместо того, что я пишу, я писал бы сейчас оду в честь Генералиссимуса. Владея поэтическим métier[200] принести звучную, ритмичную дань личности выдающегося мужа не особенно трудно (работа такого рода напоминает работу над переводом).
Балтийские страны — Эстония, Латвия и Литва — лежат, как известно, на краю огромного континентального массива. Залив отделяет их от Финляндии, Балтийское море от Швеции. Народы, которые их населяют, — не славянские. Язык эстонцев родствен финскому. Близкие друг другу языки литовцев и латышей — до сих пор загадка для ученых: неизвестно, откуда пришли эти племена, чтобы поселиться в нижнем течении Немана и Двины. Известно только, что истребленные пруссы пользовались похожим языком. Из этих трех народов только литовцам удалось в прошлом создать большое государство, границы которого доходили до Днепра, и оно держалось какое-то время. Слабонаселенная территория трех этих стран подверглась с момента принятия населением христианства сильной колонизации — главным образом, немецкой и польской. В результате колонизации возникло двуязычие: подлинные господа — а были ими землевладельцы — говорили по-немецки (Эстония и Латвия) и по-польски (Литва), отчасти потому, что пришельцы принесли с собой свой язык и обычаи, отчасти потому, что местные роды приняли язык и обычаи пришельцев; простой же народ пользовался родным языком и сохранил особую культуру, восходящую к незапамятным временам. После Первой мировой войны эти страны перестали быть провинциями Российской империи и обрели независимость. Радикальная земельная реформа ликвидировала влияние помещиков. Национальные языки стали языками новых государств, а литература и школьное образование обратились к народной традиции.
В 1939 году население трех стран насчитывало около шести миллионов, то есть немного больше, чем население Чили, немного меньше, чем население Швеции. Это были аграрные страны, сохраняющие равновесие бюджетов благодаря хорошо организованному экспорту бекона, яиц, масла, зерна и птицы в Западную Европу.
В этом отношении они напоминали Данию. Впрочем, не только в этом отношении. Кто знает стиль жизни фермеров, легко представит картину существования на этой прибалтийской территории. Хорошо развитая кооперация облегчала крестьянину продажу его продуктов. Жизненный уровень жителей, судя по тому, как выглядели их дома и они сами, как они питались, был выше, чем в других государствах Восточной Европы, за исключением, может быть, Чехословакии. Эстонцы и латыши были в большинстве своем протестантами, литовцы — католиками. Все три нации характеризовал ярый патриотизм, доходивший часто до шовинизма, — что находит свое объяснение в прошлом, которое было суровым для этих народов. В военном отношении все три страны были беззащитны.