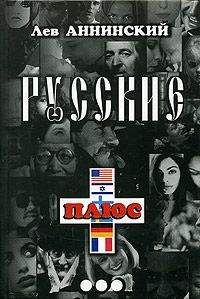Впрочем, 1917 год — Катастрофа?
Я думаю, что и 1610-й — тоже. И 1385-й. И 1237-й. Только все это более или менее забытые Катастрофы.
«О Катастрофе у каждого своя история. Масса мемуаров. Но мемуары дело такое: ты написал и избавился. Литература — это нечто иное. Мемуаров о Катастрофе много, литературы на иврите о ней — почти нет. Почему? Ведь треть нашего народа уничтожена. Уцелевшие свидетели добрались до Израиля. Мемуары ими написаны, а литературы — нет. Почему?»
Потому что литература появляется тогда, когда появляются люди, готовые ее воспринять. Дело не в том, что нет писателей, а в том, что нет читателей.
В СССР о Великой Отечественной войне были написаны горы мемуаристики и тонны литературы, остававшейся «внутри ситуации». Чувствовалось, что нет вершины, которая поднялась бы надо всем. Помню диалог во время читательской конференции по «военной прозе».
Вопрос из зала:
— Почему об этой великой войне не написано ничего, равного «Войне и миру»?
Ответ:
— Потому что среди нас с вами нет ни Андрея Болконского, ни Пьера Безухова, ни Николая Ростова.
Когда появился роман Гроссмана «Жизнь и судьба», вопрос отпал. Значит, «среди нас с вами» выросли люди, способные понять и драму партийца-коминтерновца Крымова, и драму «военспеца» Новикова, и драму ученого Штрума. Не порознь: того, другого, третьего, а — общую нашу драму. Появилась Литература.
«Воспоминания о Катастрофе — живут как бы в глубоком подвале, куда каждый спускается в одиночку. Об этом не говорят не только друг с другом, но и сами с собой. Я и не пытался писать о себе — таких историй в нашей стране более полумиллиона, есть и пострашнее, — я хотел понять смысл. Если нет смысла, зачем все это?..»
Какой смысл в гибели? В унижении? В том, что ты бессилен, не можешь ничего поправить?
А какой смысл во фразе: «Блаженны нищие духом»? Не телом, заметьте, духом! Вроде бы уж духом-то надо бы богатеть и усиливаться. Пользу неуязвимости можно на пальцах доказать. Но нельзя доказать пользу уязвимости. Это абсурд — в него можно только верить. Испытывать духом бессилие, измерять духом бездну нищеты — зачем? Затем, что абсурд жизни все равно настигнет. Все равно придется все это измерить. Достаточно вжиться в факт смерти даже одного человека…
«Мы не можем постичь смерть одного ребенка — как постичь смерть миллионов? Наше сознание вытесняет Катастрофу, не принимает, отметает всякие разговоры о ней. Те, кто пережил Катастрофу, пережили ее лично. И этот личный опыт, каким-то особым, уникальным образом преломленный, может стать литературой… Смысл — вот что важно для создания литературы… Как сделать так, чтобы то, что случилось с Ициком или Мойше, обрело универсальный смысл? Как найти эту „точку схода“, мельчайшую крупицу, микроскопический кристалл, где собралась вся трагедия?»
Для этого надо, чтобы сыновья Ицика и Мойше, вышедшие победителями из «шестидневной войны», и внуки их, переназвавшиеся Амирами-Шамирами, захотели вжиться душой в драму дедов. Тогда микроскопическая крупица станет кристаллом, через который засветится Смысл.
Смысл — это не избавление от боли, а боль, ставшая твоим «Я». Твое «Я» и есть Смысл, все остальное бессмыслица.
«Еврейский народ побывал в аду. Как написать об этом?»
Интересно, есть ли на земле народ, который не побывал в аду? Об иных вариантах и рассказать некому: ни мемуаристов, ни слушателей. Ничего как бы и «не было».
А чтобы «было», надо жить памятью. Даже если на «внешней территории твоего бытия» переворачивают все: отращивают (или сбривают) бороды, накачивают в подвалах бицепсы, меняют на башнях птиц на звезды. Или наоборот.
МЕНОРА И МЕЗУЗА, ТФИЛЛИН И ТАЛЛИТ, СУККОТ И ШАБАД
Я спросил художника Любарова, когда и как явилась ему идея сделать цикл на еврейскую тему.
Художник подумал и сказал, что один генерал, выступая перед казаками, отозвался о евреях грубо и даже употребил при этом неприличное слово.
Я высказал предположение, что ругательства генерала — не настолько существенный факт нашей текущей истории, чтобы определять пути искусства.
Художник подумал и сказал, что когда он был в Антверпене и увидел тамошних ортодоксальных евреев, то их черные пальто и шляпы его поразили.
Я заметил, что в этом случае логично было бы изобразить голландских евреев на фоне их голландских домов, а не переносить их на московский Щипок или в деревню Перемилово, что между Юрьевом-Польским и Переяславлем-Залесским.
Художник подумал и сказал, что есть понятие «еврей», а есть понятие «русский еврей», это не одно и то же.
Я спросил, живет ли хоть одна еврейская семья в Перемилове.
Да, живет, и не одна. Если там живут азербайджанцы и цыгане, почему бы не жить и евреям? Правда, евреи там такие скромные, что иные и не подозревают, что они евреи.
Я подумал, что полученной информации мне достаточно, и углубился в созерцание работ.
В новом цикле Любаров и похож, и не похож на себя прежнего. Похож в том, что общая тональность «Щипка» и «Деревни Перемилово» — циклов, принесших в свое время художнику всероссийскую и европейскую известность, сохраняется и теперь. Тональность мягкая, теплая, обволакивающая, вроде бы даже благодушная — странно взаимодействующая с острой фактурой сюжетов и положений: с фантастической русской непредсказуемостью, то есть с той особенностью нашей жизни, преимущественно деревенской, какую ненавидящие критики издавна клеймят «свинцовыми мерзостями», а влюбленные апологеты величают обратной стороной талантливости — неотразимой русской «дурью».
В этом же изобразительном ключе строит Любаров и еврейскую серию: композиции отдают лубочной распределенной повествовательностью, объемы округлены, фигуры пластически самодостаточны. Только золотисто-голубая гамма, пожалуй, сдвинута к фиолетовому краю спектра, хотя самого края не видно, но: чуть глубже тени, чуть гуще воздух… Впрочем, может быть, такое впечатление создается из-за активного вторжения в эту нежную пастельность черных пятен: как-никак, у евреев и лапсердаки черные, и шляпы, и картузы, и зонтики.
Самый же замечательный эффект дает то, что евреи, мобилизованные то ли с антверпенских мостовых, то ли со страниц Торы, — высажены прямо в наши среднерусские снега. Эффект — прежде всего живописный. То есть: когда вдоль по перемиловской шествуют два мудреца в черном, то они изумительным образом, магнетически притянуты друг к другу и держатся, как в невесомости, внутренним взаимопритяженьем. Идут — сквозь реальность! Глядит на них баба с кучи бревен, бревна эти тянутся куда-то за обрез картины, — а эта пара центрирована так, что бабу они и в упор не заметят. Другая баба, махнув сумкой со снедью, прошла мимо и ушла опять-таки за обрез картины; видна только вкусная попка; мудрецы этой прелести опять-таки не замечают. Их черные силуэты сопряжены между собой, сцеплены «непонятно чем».
Может, эта сомкнутость контуров — при той же патентованной любаровской «воздушности» — и отличает его новую, еврейскую серию от прежней, русской?
В еврейском цикле — «Встреча»: сближаются две фигуры для рукопожатия; руки еще не соприкоснулись, но вот-вот… и все движение на полотне — от краев к центру, к магнетической точке в центре.
А в русской серии? Один мимо другого проходят: «Привет!.. Привет!..» — в сущности, не замечая. В обнимку лежат, а смотрят — в разные стороны. В хороводе цепью держатся, а глазами косят: не залез ли кто куда не следует. В очереди номера пишут на ладонях — каждый вперился в свою ладонь.
В еврейском цикле — «Молитва»; единый массив: кипа к кипе, лапсердак к лапсердаку; оливковые глаза рифмуются: все взгляды собраны единым порывом; множество отдельных лиц, глаз, воль — намагничены в одно.
А в русском — «Саша с газетой»: в руке номер «Гудка», под одной кепкой — шесть профилей с невидящими глазами; глаза устремлены куда-то в неопределенное пространство, в инобытие, в никуда. Или это эйфория опьянения? «Коля видит третьим глазом»: у Коли под кепкой — сдвоенное лицо: два носа, два рта и три глаза (в глазах двоится?) и взгляд опять-таки в «никуда». Или: идет красавица по деревне, бросила снежок, смотрит — то ли на снежок, то ли на луну…главное — куда-то за обрез смотрит, куда-то «туда»… Разомкнуто!
В еврейском цикле такая разомкнутость просто немыслима. Жарит еврей рыбку — весь согнулся к сковородке, спина дугой композицию замыкает; весь тут, весь собран. Если тесто раскатывают, халлу лепят, то жгутиком конец собран, свит, и пальцы сплетены. Если сидит еврей на берегу (берег нашенский, кустодиевская Венера невдалеке обнажила убойные телеса), — еврей ничего этого не воспринимает, он сидит, скрючившись, обхватив колени, застегнувшись на все пуговицы, натянув черную шляпу на голову, и взгляд его устремлен внутрь души…