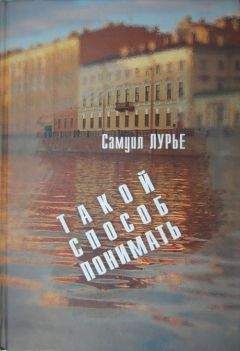Покуда Серая Шейка нарезает круги по сужающейся полынье — и набирает по сотовому чей-то лондонский номер, и вымолвить хочет: давай улетим! — но нажимает «отбой»: ах, нету средства от зимы, кроме колючей проволоки вдоль берегов, — а гаагская рыжая следит голодными глазами…
Пока обыватель томится в накопителе, ожидая объявления: в каком из подлунных миров — не в четвертом ли — высадят его этак через недельку-другую. Не в Союзе ли, например, Скифском, Соборного Рычания…
В общем, покамест тянется этот интервал — от политического, так сказать, нечего делать и в предвкушении неизбежной, но непредсказуемой подлянки, — не развеять ли нам гражданскую скуку страничкой русской классики. Уцененной, если кто заметил, без прочтения, огульно.
Извлечь, скажем, из мусорного бака вещицу некоего Лескова Н. С. под названием «Загон». За что, интересно, эту штуку гнобили обе цензуры — царская и советская, мать и дочь.
А за то, что, представьте себе, в 1893 году (тоже в историческом интервале: на перегибе от Александра Третьего к Николаю в своем роде Последнему) Лесков вывел для России окончательную формулу судьбы: особенный такой План, или, если угодно, Антиплан, — которому должно неуклонно следовать государство, чтобы до скончания веков большинство населения состояло из несчастных и злых. И чтобы эта несчастная и злая масса (нарочно лишаемая смысла и регулярно сводимая с ума) цеплялась за данный План изо всех своих страшных сил.
Ключевые понятия такого Плана — Стена и Загон. Лесков начинает от Стены, поскольку в ней вся суть: настоящий Загон можно создать только за достаточно прочной Стеною. Прочной в умах.
В 90-х позапрошлого свирепствовала мода, похожая на теперешнюю: проклясть и забыть лихие 60-е — эпоху т. н. великих, но нежелательных реформ, когда хитрые злодеи, воспользовавшись поражением империи в Крыму, собственной выгоды ради попытались навязать стране какую-то, черт ее дери, свободу. Когда и с внешней стороны Стены «разные беспокойные люди старались проломать к нам ходы и щелочки, и образовали трещины, в которые скользили лучи света».
«Лучи эти, — напоминает Лесков, — кое-что освещали, и то, что можно было рассмотреть, — было ужасно. Но все понимали, что это далеко не все, что надо было осветить, и сразу же пошла борьба: светить больше или совсем задуть светоч? Являлись заботы о том, чтобы забить трещины, через которые к нам пробивался свет. Оттуда пробивали, а отсюда затыкали хламом…»
После чего, как известно, произошли в столице теракты, а в Польше — мятеж. И пролилось много крови. И закрылись почти все независимые СМИ. И сделалось в обществе темно и душно. И в этой духоте т. н. интеллигенция на славу отпраздновала трусу.
«Огромное множество людей вдруг почувствовали, что они были неосторожны и напрасно позволили духу времени увлечь себя слишком далеко: им было неловко, что они как будто выпятились вперед за черту, указанную благоразумием… Им стало стыдно и неловко: что они, взаправду, за европейцы!»
И пошли повороты на попятный двор по всем линиям.
«И тут случилось в спешке и суматохе, что кое-кого напрасно сбили с ног и позабыли то, чего не надо бы забывать. Забыли, какими мы явились в Крым неготовыми во всех отношениях и каким очистительным огнем прошла вся следовавшая затем „полоса покаяния“; забыли, в виду каких соображений император Александр II торопил и побуждал дворян делать „освобождение рабов сверху“; забыли даже кривосуд старых, закрытых судов, от которого стенали и страдали все. Забыли все так скоро и основательно, как никакой другой народ на свете не забывал своего горя, и еще насмеялись над всеми лучшими порядками, назвав их „припадком сумасшествия“.
Настало здравомыслие, в котором мы ощутили, что нам нужна опять „стена“ и внутри ее — загон!»
И Лесков описывает наступившую наконец стабильность, ее характерные симптомы. Типа — внимает телевизору. Типа — идет выпуск новостей.
Вот отчет о заседании: очередной оратор проповедует, что «Россия должна обособиться, забыть существование других западноевропейских государств, отделиться от них китайскою стеною».
Вот парадный обед: чествуют авантюриста, подозреваемого за границей в уголовщине: «рыжий, коренастый, с круглыми бегающими глазами… Его надо было оберегать, потому что ему угрожала Англия. Для этого он не пил ничего из бокалов, которые ему подавали, а хлебал „из суседского“…»
А вот научная новость: знайте, россияне, что от всех болезней исцеляет сажа лоснящаяся — «которая есть только в русских избах, на стенах, натертых мужичьими потными загорбками… На Западе такого добра уже нет, и Запад придет к нам в Загон за нашею сажею, и от нас будет зависеть, дать им нашей копоти или не давать; а цену, понятно, можем спросить какую захотим. Конкурентов нам не будет».
Это все очертания Стены. Оберегающей Загон. Порядки которого пересказывать — напрасный труд. Но который так дорог его обитателям. Из картинок, предлагаемых Лесковым, возьмем одну: как еще при Николае I один богатый помещик построил своим крестьянам кирпичные дома с черепичными крышами, завел общую баню и школу. Крестьяне выбили из окон стекла, приспособили дома под нужники, налепили деревянных пристроек, где и стали жить; от бани отказались, «находя, что в ней будто „ноги стынут“, а о школе шумели: зачем нашим детям умнее отцов быть?
— Мы ли-де своим детям не родители: наши ли сыновья не пьяницы!»
Загон суров. Помещик умер нищим бродягой. Лескова не читают. Стена стоит.
11 июля 2008
Вот и Приставкин умер. Анатолий Приставкин. Автор повести «Ночевала тучка золотая». Последнего великого произведения советской литературы. Возможно — последнего великого произведения русской литературы вообще.
Той, классической, прозы, в которой высшая справедливость — сострадание. Той, которая, защищая несчастных людей, бесстрашно бросалась хоть на государство, хоть на Господа Бога.
За что эту прозу и полюбил весь мир. Только в России в конце XX века она стала никому не нужна.
Подумать только: если бы Ельцин и окружавшие его болваны действительно прочитали повесть Приставкина — если бы не омертвел у них тот участок мозга, который отвечает за способность понимать худ. текст, — не началась бы чеченская война и совсем другая была бы вся жизнь вокруг — не исключено, что несравненно приличней.
А теперь литература не имеет значения. И милосердие больше не стучится ни в чьи сердца.
А стучится в них фальшь.
9 ноября 2008
Надо помянуть, непременно помянуть надо. 190 — не шутка. До полного округления даты собрание его сочинений, пожалуй, не достоит.
Став позапрошлым, XIX век стремительно уплывает в темноту и тает, как льдина. И. С. — на самом краю.
Надо помянуть, непременно помянуть надо. И по этому случаю политику к черту. Позабыть, как там врио полудиктатора хлопочет, чтобы принципал стал полным наконец. Речь, видите ли, продолжалась 85 минут и 56 раз прерывалась аплодисментами.
А это ведь И. С. реально вывел ихних пра-пра из крепостного состояния. На пару с Григоровичем. Исключительно средствами стиля. Тот — сын украинца и француженки — сочинил вещь, которую порядочные люди не могли читать без слез: «Антона-Горемыку». Про то, что крестьянин, очень вероятно, обладает способностью чувствовать себя несчастным — то есть душой, хотя и небольшого размера. Как бы детской. Ну и глухонемой.
А этот, значит, потомок татаро-монгольских агрессоров изобразил картину совсем другую. На которой фигуры в крестьянской одежде такие крупные, с насмешливыми лицами умных взрослых. И тут же — злые карлики в сюртуках и куртках делают разные повелительные, угрожающие жесты. Не обращая внимания на пейзаж и экономику. Не замечая, как они в этом пейзаже и в этой экономике смешны.
Крепостное право морально устарело в момент: как только тираж «Записок охотника» был развезен по книжным магазинам. Понимать его как норму жизни сделалось неприлично. (Пользоваться — дело другое.) Через девять лет пришлось вообще отменить.
Так литература освободила народ. И он двинулся вперед. И отнял власть у прежних карликов. И отдал новым — которые умеют хлопнуть в ладоши 56 раз за 85 минут.
И то сказать: злоключения Антона-Горемыки значительно уступают приключениям Ивана Денисовича.
Надо помянуть, непременно помянуть надо.
Если бы тайная полиция поставила всю русскую литературу к стенке, выстроив по росту, Тургенев оказался бы правофланговым. Огромного был роста.
И мозг у него был почти нечеловечески тяжелый. 2 кг 12 г, если не путаю.
Плюс правильное, действительно высшее образование. Плюс сотни километров пешего хода: за тысячами птиц (письма пестрят похвальбой: вчера убил столько-то, сегодня — еще больше).