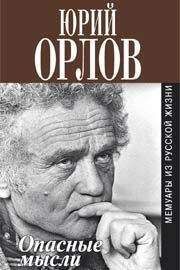Немногие принимали эти аргументы всерьез. Концепция прав человека для большинства людей остается расплывчатой, тогда как безопасность (в ее узком понимании) определена конкретно в терминах сил обороны и взаимного разоружения. Более того, часть западного общества всегда воспринимала давление на Советы как дело, достойное лишь оголтелых реакционеров-антикоммунистов. Наиболее же серьезное и ходовое возражение состояло в том, что русские не готовы к демократии. История показывает, говорили мне, что русские покорны, послушны по природе и в целом не обладают демократической психологией, появляющейся лишь в ходе демократического развития; следовательно, давление в сторону радикальных демократических реформ бесполезно. История показывает, говорили мне другие, что русские по своей природе склонны к насилию, а демократической психологией, вырастающей в ходе демократического развития, не обладают; следовательно, давление в сторону радикальных реформ опасно. Мы все — и все с этим у нас на Западе согласны — должны быть благодарны Горбачеву и должны поддерживать его.
Это дружеское заключение, высказываемое из лучших побуждений, покоилось на весьма упрощенных и взаимно не согласованных гипотезах о врожденных качествах и историческом опыте народов и на выборочных, не вполне аккуратных обращениях к истории. Мог ли, скажем, покорный, послушный от природы народ пойти на три революции и одну беспощадную гражданскую войну в течение одного столетия? Мог ли, с другой стороны, народ, склонный от природы к насилию, терпеть в течение трех десятилетий последовательное уничтожение своих 60 миллионов мирных жизней руками своих же собственных правителей? И так ли уж очевидно, что молчание оставшихся в живых есть то же самое, что молчание рабов? История показывает, что Россия постепенно приобретала демократический опыт в промежутке 1861–1917, — не бог весть какой, но все же опыт.
Крепостные в России были освобождены чуть раньше, чем рабы в США. В течение последующих шестидесяти лет Россия находилась под огромным прессом радикально-демократического общественного мнения, бедой которого было, правда, почтение перед левыми террористами. Что касается демократических институтов, то суд присяжных существовал с 1861 до октября 1917; парламент, отсутствие цензуры, свобода партий и профсоюзов — с 1905 до октября 1917; антимонархическое правление и даже выборы командиров в армии — с февраля по октябрь 1917.
История, кроме того, показывает, что и наличие демократического опыта не гарантирует сохранность демократии. При всем своем демократическом опыте итальянцы вырастили Муссолини, немцы Гитлера, французы Пэтэна, норвежцы Квислинга, американцы Маккарти…
Так, на основе плохой логики и еще худшего знания истории, некоторые ревностные демократы ревностно отвергали идею мощного давления на СССР с целью проведения фундаментальных демократических реформ. Я был поражен. Россия была очевидно готова к демократии. Но Запад не был готов к демократии в России,
К счастью, однако, на Венской Конференции лишь немногие участники собирались немедленно благодарить Советы за представленные ими прекрасные планы на будущее, — что и обнаружила советская делегация, когда выдвинула сногсшибательное предложение — провести специальную Хельсинкскую конференцию по правам человека в Москве в 1987 году. Это был нонсенс — проводить конференцию по правам человека в стране, где тысячи политзаключенных все еще томились в лагерях, часть в спецпсихушках, где один из величайших людей и ученых все еще находился под фактическим домашним арестом, где продолжали преследовать даже несанкционированные группы сторонников мира! Это как если бы нацистская Германия предложила провести всемирную конференцию по генетике в Берлине.
Хотя большинство западных делегаций чувствовало себя, так сказать, неловко от советского предложения, а английская, канадская и американская считали его совершенно смехотворным, я предвидел, имея некоторый опыт общения с Западом, что большинство глав государств не воспримут идею простого бойкота такой конференции. После недавно узаконенной Горбачевым гласности на Западе началась интересная эпидемия горбомании и миллионы людей обратили свои взоры к этому человеку, в котором видели либерального царя отсталого народа. Западные правительства могли, однако, поставить ряд непременных условий проведения конференции и, — что было им не очевидно, но на чем я настаивал, — эти условия могли быть Советами приняты. Потому что было ясно, что при всем своем блефовании, советский режим должен был испытывать очень тяжкий кризис, если он решился на такой новый и непредсказуемый по последствиям процесс, как гласность. Правда, что государственная монополия на информацию уже была разрушена Солженицыным, Сахаровым и диссидентами, которые практиковали свою собственную гласность целую четверть века; но когда я в частном письме к конгрессмену мадам Фенвик много лет назад отметил, что мы, диссиденты, бросаемся на колючую проволоку в надежде, что по нашим телам пройдут другие, — я никак не ожидал, что этими «другими» окажутся члены Политбюро! Очевидно, Советы отчаянно нуждались в западной помощи. И если им это надо, и по этой причине они обеспокоены «имиджем», т. е. образом СССР как цивилизованного государства, то пусть они и принимают условия, абсолютно нормальные для любого цивилизованного государства. Главным условием должно быть, конечно, освобождение всех политзаключенных. В прочие условия должны обязательно входить: свободный доступ на конференцию независимых журналистов и правозащитников из Восточной Европы и Советского Союза и возможность принесения жалоб делегатам рядовыми гражданами без преследования за это властями ни во время, ни после конференции. Когда я уезжал из Вены в начале декабря, большинство делегаций начало принимать идею Московской конференции по правам человека с условиями.
Маргарет Тэтчер, однако, решительно отвергала эту конференцию в какой бы то ни было форме. Поэтому, когда я встречался с ней на обратном пути в Америку, я высказал свое мнение, что принять советское предложение можно, наложив строгие сопровождающие условия. Я добавил, что если у Запада не хватит духу настаивать на принятии и выполнении условий, то тогда, конечно, лучше предложение СССР не принимать.
8 декабря 1986 года, когда советская делегация все еще радушно раскрывала московские объятия, погиб Анатолий Марченко. Голодовка блестящего писателя, индустриального рабочего, мирного бойца против государственного насилия была доведена до конца. Делегаты Венской Конференции знали о его обращении к ним по поводу политической амнистии, тайно доставленном из Чистопольской тюрьмы с помощью его жены Ларисы Богораз, широко известной диссидентки. Смерть Марченко обсуждалась делегатами, в частности, в связи с Московской конференцией. Через два месяца Советы вынуждены были объявить, что они освободят людей, осужденных по статье 70 («Антисоветская агитация и пропаганда»), по причинам «затруднений в международных отношениях Советского Союза, вызываемых наличием таких заключенных», как объяснил посол Кашлев. После этого месяц за месяцем заключенных действительно освобождали, но малыми каплями — каплями крови, выжимаемой из камня. Месяц за месяцем западные делегации в Вене не сдавались в подходе к Московской конференции, и новые группы политзаключенных выходили из лагерей. Наконец, в декабре 1988-го, когда большинство заключенных было освобождено, американская делегация под давлением госдепартамента согласилась на советское предложение в принципе. Несогласные англичане и еще более несогласные канадцы после этого согласились также; спорная Московская конференция была запланирована на 1991 год.
В начале февраля 1987-го, в тот самый месяц, когда начали освобождать политических заключенных, до той поры официально не существовавших в природе, я возвратился к научной работе — после тринадцати лет насильственного перерыва. Прекрасная холмистая местность вокруг Корнелльского университета, город Итака, штат Нью-Йорк, напоминала Подмосковье; работа исследователя в лаборатории ядерной физики представлялась идеальной. Неидеальным было то, что пришлось ехать в Итаку одному. Как оказалось, Ирина полетела со мной из Москвы в Америку только из страха, что если она откажется, то это осложнит мое освобождение. Придя, однако, в отчаяние от разлуки, — как выяснилось, с моим старым другом Сашей Барабановым — она вернулась к нему в Москву как раз перед моим переездом в Итаку. Ну, что ж, лучше к другу, чем к врагу.
Началось то, что, как я надеялся, было последним в моей жизни стартом новой жизни. Устроиться мне помогал Курт Готтфрид, прекрасный физик, очень симпатичный человек и активнейший член комитета SOS (Сахаров, Орлов, Щаранский). Мне он понравился с самой первой встречи, и я принял приглашение именно этого университета частично благодаря ему. Курт помогал мне организовать изучение английского, когда Слава Паперно, лингвист, порекомендовал мне учителя — очень строгого ума женщину, преподававшую writing — составление аналитических эссе; кроме того, изучавшую русский в Славином классе; и кроме того, очень удобно жившую в одном со мной доме этажом ниже. Первый урок продолжался не час, а четыре, в непримиримых дебатах о Чехове, в которых я использовал свои двадцать английских слов, а она сто русских. День шел за днем, мой английский становился все лучше, ее русский все хуже, пока мы не купили дом в лесной стороне, двенадцать минут езды до лаборатории, и не женились после моего развода с Ириной.