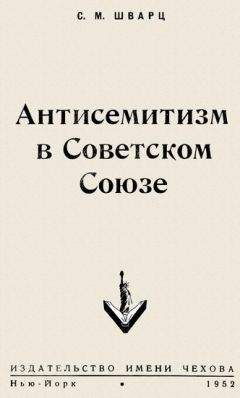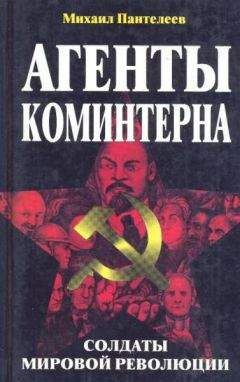Не станем далее углубляться в дела литературно-семейные.
Есть, правда, один случай, когда семья и литература переплелись столь цепко, что не представляется возможным отделить тут одно от другого. Речь пойдет о Нарбиковой Валерии Спартаковне, 1958 г. р., издавалась в Париже, в “Третьей волне”, Амстердаме, Франкфурте, Москве, член СП Москвы и Русского ПЕН-центра. Всё, как у людей, но далее следует вдруг нечто необычайное: “В феврале 1995 вышла из исполкома ПЕН-центра, потому что в ПЕН-центр не был принят ее муж А. Глезер”. О таком писателе нам ничего не было известно. Справочник восполнил пробел: “Глезер Александр Давыдович, 1924 г. р., собирал картины “неформальных художников”, эмигрировал, создал в Париже издательство “Третья волна”, муж писательницы Нарбиковой”. Да, верность супруги делу своего мужа впечатляет. Пенелопа нашего времени.
Два слова о Резнике Илье Рахмиэлевиче, заслуженном деятеле искусств Российской Федерации: “пишет тексты песен для А. Пугачевой” и других эстрадников. На вечере Резника, который не раз показывали по Центральному телевидению, его превозносили “мэр в кепке” и портретист-монархист Глазунов. Но любопытно новаторство куплетиста: он создал издательство “Библиотека Ильи Резника”, где издает самого себя. Например, в 2001 году тут вышло четыре его книги.
Два слова о писательнице, она же — политзвезда столичного телеэкрана Юлия Латынина. Выглядит, как будто только что прилетела с горы Брокен и растрепалась на ночном ветру. Недавно возбудилась по поводу письма нашего “Шильонского узника” Ходорковского. Сравнила его... с Нельсоном Манделой! Придется напомнить, что тот южноафриканский негр просидел в тяжком заключении лет тридцать, отстаивая права своего угнетенного и обкраденного народа.
Ходорковский за права еврейского народа никак не сражался, а вот русский народ — подозревают — обобрал.
Еще один писатель нас заинтересовал — В. Костиков, бывший пресс-секретарь Ельцина, часто мелькал в ту пору на телевидении и в печати. В Справочнике перечислены его сочинения, посты и занятия. Но... об одном обстоятельстве, что публично обсуждалось, ничего нет. Сошлемся на известную книгу А. Коржакова, посвященную описанию Ельцина и его окружения. Там рассказывалось о пристрастии Костикова к гомосексуализму. Когда-то, совсем недавно, этот сюжет был неприличен для публичного обсуждения, но теперь-то на телеэкране тем похваляются. Чего же тут постеснялся наш сугубо “демократический”, с большим стажем, “автор”? Ведь Костиков и его партнеры могут обвинить издание в реакционности, черносотенстве и даже — кто знает? — в антисемитизме.
Последнее сообщение, почерпнутое из Справочника, носит совсем исключительный характер. Излагать это невозможно, доверимся цитате: “Гессен Маша. Родилась в Москве. В 1981 вместе с родителями уехала в США, где получила архитектурное образование... В 1994 вернулась. Член совета директоров клуба геев и лесбиянок “Треугольник”. Состоит в незарегистрированном браке с англичанкой Кейт Гриффин”.
Умри, Чупринин, лучше не напишешь!..
А заключить придется краткой цитатой из классика, слегка ее переиначив: “Боже, как грустна наша “Новая Россия”!
Если бы Юрий Селезнёв был с нами... (К двадцатилетию со дня смерти) (Наш современник N6 2004)
ЕСЛИ БЫ ЮРИЙ СЕЛЕЗНЁВ
БЫЛ С НАМИ…
(К двадцатилетию со дня смерти)
“В нашем поколении (имею в виду родившихся накануне и в годы Великой Отечественной) ему суждено было стать первым во многом. Он был первым среди нас по мощи дарования, по масштабности мировосприятия, по мировоззренческой и нравственной цельности — это виделось, как говорится, невооружённым взглядом. А для меня лично, да, наверное, далеко не только для меня, он был первым братом-другом, самым родным и авторитетным среди других друзей-товарищей” (Николай Кузин) .
“Его убеждения были равны его действию. Его терпение было беспредельно. Присутствие его на любом собрании, участие в разговоре резко повышало уровень общения людей” (Владимир Крупин) .
“Как чист был взгляд его глаз, так чист он был в отношении своих пристрастий. И если он верил в какую-то идею или в какую-то книгу, он имел смелость сказать о своей вере на любом суде” (Игорь Золотусский) .
“Меня с первого нашего знакомства что-то тревожило в Юрии Селезнёве — я подсмотрел в его таких чистых голубых глазах глубоко-глубоко затаённую боль и ощущение трагизма, обречённости. Вот это я и хотел передать, когда писал его портрет” (Александр Шилов) .
“Если труд становится нашей единственной средой, мы надрываемся душевно и физически, а радость земная тает, как в тумане. Наверное, влияние Ф. М. Достоевского на Селезнёва было чрезмерно; он перехватил у него даже образ жизни — ночной” (Виктор Лихоносов) .
“Это именно освоение Достоевского в целом… Но эта способность помыслить Достоевского в целом, как бы разом, подготовленная всем развитием нашей науки о литературе, была в то же время плодом мощного индивидуального усилия Ю. Селезнёва” (Николай Скатов) .
“Великое и редкое достоинство было у него. В любой компании, в любом кругу друзей и знакомых он невольно оказывался в центре внимания, рассказывал интересно, спорил, доказывал… С ним можно было говорить бесконечно и на любые темы, и всё он знал, и всегда всем интересовался. Досуга у него почти не было” (Борис Солдатов) .
“В его лице и даже в самом его стане ясно выражалась несгибаемая душевная крепость и чистота… Что бы он ни делал в эти годы — слушал, читал, писал, вёл беседу, даже попросту общался с людьми — во всё это он вкладывал прямо-таки исключительную духовную энергию. Это было непрерывное горение, непрерывная и полная самоотдача… Напряжение его духа было столь велико, что время от времени он начисто растрачивал свои силы и на какой-то — впрочем, очень недолгий — срок становился словно бы немощным, совсем непохожим — даже внешне! — на того Юрия Селезнёва, которого знали остальные” (Вадим Кожинов) .
“Запомнился он мне стройным, в военной гимнастёрке ещё с поры вступительных экзаменов. По-моему, уже тогда его называли Джеком Лондоном — из-за ослепительной белозубой улыбки и в общем-то сильного сходства со знаменитым тогдашним его кумиром… в мой прошлый приезд, когда мы шли с ним по улице Горького, на него, засматриваясь, оглядывались прохожие — так необычна и привлекательна была его внешность” (Александр Федорченко) .
“Трудно принять и осмыслить до пронзительной боли раннюю его смерть. Но, быть может, всё просто — короткая эта жизнь была так наполнена, так многообразна и богата трудом и вдохновением, что можно, не погрешив, сказать — он жил м н о г о” (Валерий Сергеев ) .
“Что если за зримым образом Юры ей открывается какая-то его особая духовная природа, незримая для окружающих? Мне даже казалось иногда, что тётя Фаня не только притронуться к сыну не решается, но даже приблизиться не смеет, позволяя себе только издали любоваться им и поклоняться ему как воплощённому ею богу” (Зорий Цатурьян) .
“Книга эта, на мой взгляд, достойно увенчала год Достоевского, но убеждён и в том, что её значение далеко выходит за рамки юбилейных интересов. Да, книга по-настоящему захватывает, хотя это и не художественный роман: автор не пользуется ни вымыслами, ни домыслами” (Илья Глазунов) .
“А сколько было замыслов! — они уже никем не будут осуществлены; эти книги мог написать только он, с его яркой человеческой талантливостью, с его обширными знаниями и объединяющим мышлением, с его суровым и страстным темпераментом борца за чистоту отечественной культуры, за цельность народной души, с его сердечной щедростью и добротой…
Он был прирождённый полемист, тонкий аналитик, прекрасный стилист. В последние годы его жизни каждая опубликованная им статья поражала новизной мысли, выпуклостью образа, ясностью идеи. В них чувствовалась интуиция таланта и неустанная работа ума и души” (Валерий Ганичев) .
“И опять какой-нибудь скептик сурово сдвинет брови — подумаешь, мол, умный, глубокий… Да мало ли вокруг нас таких людей? Да, согласен, таких людей немало. Только у Юрия Селезнёва всё это было возведено в квадрат, в куб, а может, и того больше” (Виктор Потанин) .
“Все теперь знают: выстраивать какие-либо исторические сюжеты в сослагательном наклонении неплодотворно — ни по отношению к событиям, ни по отношению к отдельным людям. Но почему же тогда при разговорах с теми, кто знал и любил Юрия Селезнёва, то и дело слышишь эти звучащие с каким-то неизжитым недоумением слова: да, если бы он был с нами теперь?.. И, конечно, при этом думается о какой-то громадной упущенной возможности нашей общей судьбы. И о том, как бы повёл себя в самых разных чрезвычайных обстоятельствах человек, которого нам так не хватало во все эти двадцать лет. И как бы мы себя повели рядом с ним…” (Юрий Лощиц) .