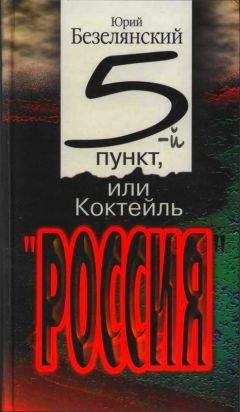Хватит демонстрировать всему миру бесстыдную наготу своей хмельной души. С Завета — «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили себе смоковные листья, и сделали себе опоясание» — началась жизнь человеческая. Вторым Заветом был долг: трудиться в поте лица своего ради хлеба насущного».
К прозаикам Каверину и Васильеву добавим блистательное трио петербургских поэтов — Иосифа Бродского, Евгения Рейна и Александра Кушнера. Самый старший из них — Евгений Рейн, ему и первое слово:
«Я — еврей. Но если разбираться, то еврейская во мне только кровь. Я, как и мои родители, не знаю языка — по-еврейски говорил только дедушка. Целиком вырос внутри русской культуры, в обществе, где русские и евреи были всегда смешаны на совершенно равноправных началах. Конечно, в каком-то мистическом смысле имеет значение то, что Пастернак и Мандельштам были евреями. Но между тем они остаются величайшими русскими поэтами. Еврейство — это только нечто метафизическое, голос крови. Но по содержанию, по насыщению — все русское. Русские традиции, русский язык, русская история. Я не считаю себя менее русским поэтом, чем Станислав Куняев…» («Сегодня», 1994, 12 февраля).
Ну, а теперь стихи, разумеется. Евгений Рейн подарил мне свой сборник «Сапожок» — книгу итальянских стихов.
За вокзалом в закатном кармине
я сидел, опрокинувши джус.
Никакой ностальгии в помине,
о, проклятый Советский Союз!..
И приведу концовку стихотворения Рейна «Утренние размышления в кафе «Греко»» (и мне довелось, к счастью, там побывать):
…И надо мной меж ламбрекенами висела в рамочке страница, которой бы аборигенам бы всех больше надо бы гордиться.
И вмиг узнал я почерк Гоголя про подлецов и департамент, и завитушки те, что около, пера гусиного орнамент.
И эти яти, эти ижицы и росчерк гениально острый, как флот, что по проливу движется в Страну Великого Господства.
Вот здесь, за этими диванами, как папуасы и разини, они и нежились с Ивановым и говорили о России.
Тогда холмы сникали римские, бледнели папы в Ватикане, ее просторы исполинские в кафе сивухой затекали.
Сюда входили люди лютые, и нарастал здесь гомон русский, пил граппу Иоанн с Малютою,
«Курвуазье» — Филипп и Курбский.
Кто объедался кремом приторным, кто падал головой об столик, пророки, каторгой обритые, лежали навзничь возле стоек.
Один сидел, ликер заглатывая, единственный был в равновесье, все время на брегет поглядывая, поскольку собирался к мессе.
А в глубине, гуляя бедненько, где эмиграция припухла,
Мицкевич ждал себе соперника из ледяного Петербурга.
Вдруг кто-то подошел панически и протянул ко мне бумагу, и я, безумный, но практический, всю сразу потерял отвагу.
Был этот счет исчислен лирами и должен был оплачен лирой, и я его в досаде выронил рукой безденежной и сирой,
Поскольку я проел в безумии штаны себе, жене костюмчик.
И я вздохнул с такою думою:
«Куда ты делся, мой подстрочник?»
Ну, что ж, судьбы не изнасилуешь, она гуляет не впервые.
Давайте, Николай Васильевич, оставим вместе чаевые.
Вы улыбнулись? Если да, то я весьма рад. Дело в том, что порою и меня начинает угнетать эта тема «Россия», всякие там ее национальности, а тут еще «евреи, евреи, кругом одни евреи», — все это безусловно тяжелит текст, и поэтому я стараюсь, не знаю, насколько получается, но приводить что-то легонькое, житейское, улыбчивое. А тема, вернее, темы книги продолжают крутиться по кругу, как «Болеро» Равеля, с нарастающим напряженным темпом. Кстати, а чистый ли француз Морис Равель? Это уже профессионально. Как мне признавался один врач-стоматолог, он ходит в театр и всегда обращает внимание на зубы актеров: все ли в порядке и где стоят какие пломбы. Вот и я туда же — в национальные корни. Посмотрел справочник и выяснил, что Морис Равель родился в семье швейцарского инженера Жозефа Равеля. Так-то.
Однако вернемся на брега Невы, к Александру Кушнеру. И сразу поэтические строки:
Не спрашивают нас, где лучше нам родиться.
Отмеренная жизнь — волшебный, чудный дар.
Спасибо, что Нева, что грозная столица, —
Могли быть Мозамбик, Найроби, Занзибар.
«У ленинградской школы замечательные предшественники, и даже не с Пушкина нужно начинать, а еще раньше, с Батюшкова, с «Прогулки в Академию художеств», — пишет Кушнер. И добавляет: — Эта школа с «архитектурным уклоном»». Кто спорит? Но вот Давид Самойлов, сравнивая Петербург (Ленинград) и Москву, заметил:
Поэты с берегов Невы!
В вас больше собранности точной.
А мы пестрей, а мы «восточней»
И беспорядочней, чем вы.
Да! Ваши звучные труды
Стройны, как строгие сады
И царскосельские аллеи.
Но мы, пожалуй, веселее…
Это уже к теме «Восток и Запад», но она впереди. Вот Иосифу Бродскому, Нобелевскому лауреату, повезло (а, может, не повезло?!): он жил и здесь и там, в России и на Западе — в горячо любимой им Италии и в Америке. А нашел он свое упокоение в Венеции, на Острове Мертвых, неподалеку от могил Стравинского и Дягилева. Друзья на гроб Бродского положили бутылку его любимого виски и пачку любимых сигарет.
Илья Кутик писал: «Бродский не был ни иудеем, ни христианином, он хотел бы быть кальвинистом, по той причине, что человеку, считал он, может быть, воздастся за деяния его. Но в конце концов ни к какой конфессии он так и не примкнул, хотя его вдова Марина хоронила его по католическому обряду. У Бродского было два определения себя: русский поэт и американский эссеист. И все» («Независимая газета», 1999, 28 января).
Лично для меня Иосиф Бродский начался с «Рождественского романса»:
…Плывет в тоске необъяснимой певец печальный по столице, стоит у лавки керосинной печальный дворник круглолицый, спешит по улице невзрачной любовник старый и красивый, полночный поезд новобрачный плывет в тоске необъяснимой.
Плывет в тоске замоскворецкой пловец в несчастие случайный, блуждает выговор еврейский по желтой лестнице печальной, и от любви до невеселья, под Новый год, под воскресенье, плывет красотка записная, своей тоски не объясняя…
(28 декабря 1961)
В «Речи о пролитом молоке» (1967) Бродский писал:
Либо нас перережут цветные,
Либо мы их сошлем в иные миры.
Вернемся в свои пивные.
Но то и другое — не Христианство.
Православные! это не дело.
Что вы смотрите обалдело?!
Мы бы предали Божье Тело, расчищая себе пространство.
Я не воспитывался на софистах.
Есть что-то дамское в пацифистах.
Но чистых отделять от нечистых — не наше право, поверьте.
Я не указываю на скрижали.
Цветные нас, бесспорно, прижали.
Но не мы их на свет рожали, не нам предавать их смерти…
Последний сборник поэта «Пейзаж с наводнением» (1995). Выбрать оттуда что-то одно — крайне трудно. Пожалуй, «Ответ на анкету»:
По возрасту я мог бы быть уже
в правительстве. Но мне не по душе
а) столбики их цифр, б) их интриги,
в) габардиновые вериги.
При демократии, как и в когтях тирана,
разжав объятия, встают министры рано,
и отвратительней нет ничего спросонок,
чем папка пухлая и бантики тесемок.
И, в свой черед, невыносим ковер с узором
замысловатым и его подзолом
из микрофончиков, с бесцветной пылью смешанных,
дающих сильные побеги мыслей бешеных…
И концовка стихотворения:
Лишь те заслуживают званья гражданина,
кто не рассчитывает абсолютно ни на кого —
от государства до наркотиков
— за исключением самих себя и ходиков,
кто с ними взапуски спешит, настырно тикая,
чтоб где — естественная вещь, где — дикая,
сказать не смог бы, даже если поднатужится,
портрет начальника, оцепенев от ужаса.
Сложно? Тогда читайте Михаила Жванецкого, он из того же списка. Или «гарики» Игоря Губермана:
Российской власти цвет и знать
Так на свободе вскипели,
Что стали с пылом продавать
Все, что евреи не успели.
Слышу смех. Тогда продолжим:
Густы в России перемены,
Но чуда нет еще покуда;
Растут у многих партий члены,
А с головами очень худо.
Вопрос корреспондента к Губерману:
— Говорят же, что в любом народе доля умных и козлов примерно одинаковая.
— Не знаю, — отвечал Губерман. — В Израиле дикое число идиотов! Как говорил Остап Бендер, это медицинский факт. Отто Вейнингер, еврей-антисемит (у нас такое случается!), написал книгу «Пол и характер», в которой на фактах доказал, что евреи гораздо более других народов разбросаны по оси «нормальный — сумасшедший», «гений — дебил». У нас середнячков поменьше. В этом смысле во мне живет прочная националистическая гордость.