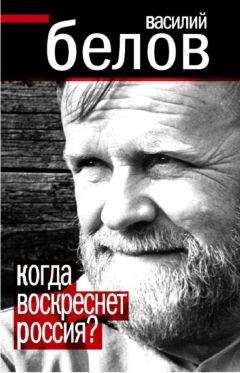Теперь я хотел сам для себя познать разницу между паломником и туристом… Вспомнился грустный и добрый взгляд поэта Александра Решетова, на встрече с которым я заразился прилипчивым литературным вирусом. Вспомнились и последние солдатские увольнения. Один раз отпустили на целые сутки. Я потратил время грешно и бездарно. Позднее зато дважды ездил в десятидневные отпуска. Один раз по тому случаю, что нас, осназовцев, Булганин уравнял по срокам службы с военными моряками. Второй раз начальство предоставило отпуск за то, что я обнаружил в эфире новый радиопередатчик. (Говаривал я уже где-то, что, будучи солдатом, сражался в эфире с самим Даллесом.) Мои солдатские воспоминания, может быть, дождутся своей очереди.
Мы пришли к ленинскому паровозу за час-полтора до поезда. Виктор с билетами не появлялся, и правильно делал.
Паровоз безмолвно торчал под стеклянным колпаком, аз же, грешный, опять вспомнил клетчатый пиджак Собчака, поминутно мелькавший когда-то перед лукьяновским микрофоном. Мы с Пантелеевым говорили о многом, в том числе и про Собчака. Наблюдали вокзальную публику. Вот подошел к ленинскому паровозу юноша с сумкой и начал что-то объяснять. Говорил он по-русски, но ни я, ни Толя так ничего и не поняли. Ушел юноша к билетным кассам, и опять к нам! И вновь что-то говорит, говорит. Мы не сразу сообразили, с кем свела нас судьба… Ощущалась какая-то смутная связь между «паровозом», клетчатым пиджаком и этим юношей.
Вокзальная обстановка не внушала оптимизма, хотя ленинградские вокзалы и общественные места намного чище московских. Демократы объясняют эту разницу, разумеется, близостью Европы, Скандинавии и т. д. Отчасти это так и есть. Но только отчасти. Основная причина этой разницы в чем-то ином. Впрочем, ежели говорить о нужде, то и разница не велика, просто нищие в Питере не такие грязные, не такие разнообразные, как в Москве.
Близость Европы действительно сказывалась. Девочка лет пяти терпеливо ждала наши бутылки. Толя пил пиво, я — какую-то слащавую воду. Хорошо одетая девочка, никакая не нищая! Но расстроила меня не пятилетняя девочка, собиравшая бутылки, а юноша с сумкой. Я долго не мог понять, что был он просто сумасшедший. Сумасшедшие всегда вызывают во мне какой-то страх, иногда ужас. И раньше я бегал от них куда глаза глядят, хоть считал шутливыми такие стихи Пушкина:
Не дай мне Бог сойти с ума,
Нет, легче посох и сума…
Александр Сергеевич явно не шутил с такими вещами. Паренек, таская свою поклажу, перебегал с места на место. Какой бес тревожит его изнутри? Врожденной или приобретенной болезнью был этот бес, которого психиатры относят к общему названию шизофрения?
Всего больше удручают пьяные женщины… Почему так много стало пьяных женщин? К мужчинам-то появилась кое-какая привычка.
Крохотная, хорошо одетая девочка вежливо, по-европейски, попросила у Толи бутылку из-под пива. Снесла куда-то и пришла за моей лимонадной. Как расширились «права человека»: бизнес в пять лет…
Наконец, появился Витя-семинарист. Он сказал, что не смог достать настоящих билетов. Купил места в разных вагонах — мне плацкарт, себе в общем, а самое главное — не до конца. Мы не стали особо тужить, я распрощался с Толей и вскоре влез на грязную верхнюю полку. Подушкой служила кепка на моем «дипломате».
Ах, не это было страшно, езживал я и совсем под лавкой! И на вагонных крышах езживал. Страшно стало при виде молодой, красивой, но совершенно пьяной женщины, разместившейся на нижней полке с родным сыном — мальчиком лет десяти. От нее на весь вагон разило сивушным запахом. Несколько раз она пыталась завязать со мной разговор, мальчик терпеливо ее останавливал. Особенно волновала ее почему-то моя борода, но я сделал вид, что дремлю. Чуть не до слез было жаль мальчика. Я видел, как он страдал от стыда…
Ночью пришел на мое место пассажир, и проводница выселила меня. Я пошел искать бригадира проводников, который продал мне билет до Сортавалы, как называется нынче город Сердобль. Я перебрался в другой плацкартный вагон. Утром ждала меня стычка с еще одной дамой. Наверное, женщина средних лет, вероятно челночница, приняла меня за священника. Она сначала вежливо выяснила, куда я еду. И вдруг заявила ни с того ни с сего:
— Никакого Бога нет!
Я имел неосторожность возразить:
— Почему вы так думаете?
— А потому что нет, и все. Одни сказки… Какой там еще Бог?
— Если вы в Бога не веруете, то во что же вы веруете?
— А ни во что! Ежели Бог есть, то почему он допускает, что люди страдают? Я вон троих чужих детей вырастила… Чего вижу хорошего? Нет никакого Бога… И говорить про него нечего…
— Человеку дана свобода выбора — верить или не верить. Это ваше личное дело.
Она заговорила опять про троих, якобы чужих, детей, но Сортавала уже приближалась.
Я пошел искать вагон Виктора. Пришлось пройти по вагону трижды, разглядывая спящих отроков. Виктор сладко спал на боковой полке. Будить не хотелось, я присел на свободное место. Он пробудился сам, без моей помощи, но без его помощи мне нельзя было обойтись, пришлось бы долго искать пристань, чтобы плыть в монастырь. Пока мы завтракали в какой-то кофейне, он рассказал, как приехал в семинарию с Украины.
Сердобль ничем не заинтересовал нас, кроме дома художника Рериха. Я вспомнил про мадам Блаватскую, и на душе опять стало как-то муторно… Дурное состояние усугублялось дурацкой музыкой, звучавшей на катере. Кому жаловаться на эти дикие звуки? Кого просить, чтобы если не выключили, то хотя бы сбавили громкость? Некого. Надо, видно, терпеть. Жаждущий тишины, наблюдаю, не могу даже подремать. Туристы суетливы и беспокойны, они то и дело с криками бродят то на палубу, то обратно. Места впереди нас заняли две толстущих дамы с детьми. Трещат как сороки. Одеты как-то бесстыдно. Одна по-мужски. Обвинять женщин за то, что носят мужскую одежду? Мне казалось, что это несправедливо. Хотя такая мода никогда и не нравилась (сперва сапоги, шапки, брюки… А там и ухватки мужские, и словечки, жесты). Оказывается, еще Ветхий Завет говорит об этом очень определенно: «Да не будет утварь мужеска на жене, ни да облачится муж в ризу женску…» Теперь допускается все подряд. Дети вон то и дело что-то едят, грызут, что-то пьют. Мальчишка лет восьми взял на себя обязанность потешать взрослых. Мамаши хохочут, подкидывают двусмысленные вопросы. Обе играют своими детьми, словно бы куклами, развлекаются. Детки, видя такое дело, еще больше входят в раж.
Витя рассказывает мне о своей родине. На Украине у него родственники, отец и мать. Я предпочитаю спрашивать о семинарском быте и предыдущей поездке на Валаам. Судно, не торопясь, долго выбирается из ладожских шхер. Острова, обросшие лесом луды. Лудами называют здесь каменные лбы и площадки, уходящие в воду. Бессонные воды Ладоги веками лижут эти скалистые берега, веками плещутся в гранитных расщелинах, переливаются по каменным площадям. На протяжении многих тысячелетий вода разглаживала каменные морщины, упорно шлифовала эти скальные нагромождения. Образовались ровные обширные площадки, как бы округлые каменные лепешки правильной формы, слоистые выступы и даже лесенки и террасы. Возможна ли такая архитектура без высшего разума? Очень сомнительно!
Небо над Ладогой прояснилось, мы с Виктором вышли на палубу. Острова и сердобльские заливы остались в нашем тылу. Водная ширь мерцала светлыми бликами. Золотисто-синяя небесная даль сливалась на горизонте с ясными водами Ладоги. Какое, оказывается, грандиозное озеро! В Европе нет больше такого… Самый крупный запас пресной воды. Глубина и просторы позволяли нашим предкам называть Ладогу морем, как называли они морем Байкал. Не видно никаких берегов… Еще сильнее действует на воображение глубина этого моря, о которой мне сказали позднее. А вот как выглядит озеро во время сильного ветра: «Великолепна буря, когда при ясном небе, при сиянии солнца порывистый ветер передвигает влажные холмы на поверхности глубокого, широкого озера. Эта необъятная поверхность вся усеяна холмами лазуревого цвета с белоснежными, серебристыми гребнями. Смятенное бурею озеро представляется одушевленным.
…Ветер был очень свежий, быстро неслись под небом белые облака отдельными группами, как стада птиц, совершающих свое переселение осенью и весною. Величественна буря на открытом озере; и у его берегов она имеет свою краску. Там свирепые волны — в вечном споре с ветрами гневаются, грозно беседуют между собою, а здесь оне — в ярости на землю, с замыслом дерзновенным. «Смотрите, как лезет волна на берег», — говорил сопровождавший меня Коневский старец. Точно, волна «лезет» на берег. Это прямое выражение действия. И лезет она с упорством не только на берег отлогий — на огромную скалу гранитную, стоящую отвесно над бездною, от начала времен мира смотрящую спокойно на свирепые бури, как на детские игры. На сажень, на две сажени подымается волна по скале и в изнеможении падает к ея подножию в мелких брызгах, как разбитый хрусталь; потом снова начинает свою упорную, постоянно безуспешную попытку».