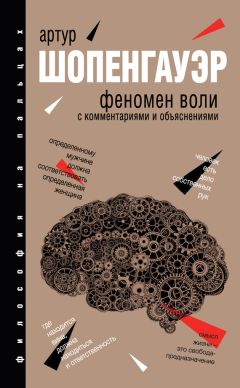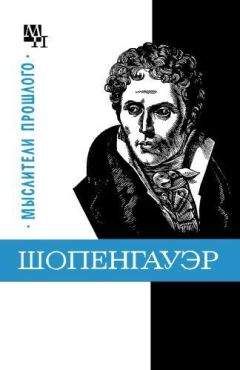Кьеркегор однажды заметил, что Шопенгауэр "сделал этику гениальной" [1], и этим афоризмом проник в самую суть. Как мы видели, Шопенгауэр считает поведение человека неразрывно связанным со знанием о мире, который мы воспринимаем в разных формах в соответствии с законом достаточного основания. Пока человек представляет реальность исходя из principium individuationis, он не может вести себя по-иному, чем так, как будто только он, его интересы и желания важны. Он не может в отношениях с другими сдерживать свою волю, поскольку он абсолютно осознает ее присутствие в своем индивидуальном самосознании и представляет себя центром мира: "...его эфемерная личность, его недолговечное существование, его кратковременное удовлетворение - только это реально существует для него; и он сделает все, чтобы сохранить их..." (том I).
1 Jouraals (Дневники). 1319.
367
Именно отсюда появляется готовность воспринимать других людей как не имеющих значения, эта готовность лежит в основе всех пороков и низких поступков - от простого бессердечного невнимания к людям и безразличия к их страданиям до получения извращенного удовольствия от созерцания боли и горя людей. Последнее Шопенгауэр называет Schadenfreude, что значит "дьявольский", и полагает, что оно "является явным знаком абсолютно черной души". Как следствие того, что было сказано выше, Шопенгауэр утверждает, что все моральные поступки требуют в качестве условия относительную независимость субъекта от таких знаний, которые определяются законом достаточного основания, - человек не должен видеть мир ординарно, его глаза должны быть открыты, и он должен обладать "лучшим знанием" (bessere Erkenntnis). Таким образом, здесь опять очевидна связь этики и эстетики.
Морально положительный человек, подобно гениальному художнику, не ограничен и не заключен в рамки обыденного размышления и восприятия, по крайней мере не полностью. Он - не обманутая миром явлений жертва, которой все видится как частное и множественное, он ощущает огромную пропасть между собой и всем остальным миром. В определенной мере он проникает за занавес видимости.
Но их свобода разная: так, независимость художника от principium individuationis выражается в созерцании вещей, в способности переступать границы ощущений, очерченные утилитарностью и эгоистическими интересами, таким образом достигая познания Представления, в то время как независимость морального субъекта проявляется по-другому. Так она проявляется в поступках человека; поведение человека просматривается сквозь его поступки и формируется через полное понимание сущности мира, какой он есть на самом деле, причем это понимание проникает за феноменальную видимость даже глубже, чем Идеи, которые являются архетипами, неизменно лежащими в основе этой видимости.
368
Такой человек своим поведением по отношению к другим людям показывает, что он "почти не делает различий между собой и другими, как это обычно имеет место", и таким образом принимает за иллюзию разделения между людьми, которые, с точки зрения обычного знания, непременно существуют и признаются всеми.
Поэтому когда наше видение мира освобождается от ограничений, предусмотренных principium individuationis, то наши отношения с другими людьми должны предстать в совершенно ином свете. Только это позволит правильно объяснить возможность поступков, имеющих подлинную моральную ценность. Подобные поступки могут показаться странными только в том случае, если мы полагаем, что люди навечно отдалены друг от друга, существуют отдельно друг от друга и вынуждены видеть всех окружающих в таком свете: эго против не-эго, "я" - против не-"я".
Таким образом, Шопенгауэр утверждает, что когда каждого индивидуума видят таким, каков он есть на самом деле, как феноменальное проявление того, что "составляет внутреннюю сущность всего и живет во всем", то представление о морали вместе с поведением, в котором они находят воплощение, предстают в другом свете. В действительности, исходя из подобной точки зрения, оказывается, что именно неправильные и несправедливые поступки требуют объяснений. Так как плохой поступок, каким бы он ни был (Шопенгауэр называет убийство, порабощение, воровство преступными действиями), представляет собой отрицание воли одной личности в пользу воли другой, и подобное правонарушение, когда его правильно понимают, - это не что иное, как одна и та же воля, которую разрывают и делят. Праведный же человек, уважающий личность, свободу и имущество других людей, своим поведением доказывает, что он достаточно глубоко познал себя и признает это.
369
Фактически, те, кто совершает неправедные действия, показывают (чаще, чем скрывают), что они неправильно понимают истины, при этом испытывая чувство беспокойства, сопровождающее их поступки или являющееся их результатом. Понятия правильно и неправильно, однако, не исчерпывают понятия морально значимого действия: для Шопенгауэра "правильный" - просто "отрицательное" понятие, паразитирующее на идее неправильного; и он в действительности приводит сам себя к парадоксу, что, например, отказ помочь людям в беде (хотя, по сути, и является "жестоким и бессердечным"), тем не менее, не является неправильным в том смысле, в котором его описал Шопенгауэр, и, таким образом, должен называться "правильным".
Я думаю, что, делая подобный курьезный вывод, Шопенгауэр хотел подчеркнуть, хотя и очень необычным образом, ограниченность идеала справедливости; приверженность справедливости представляет только очень ограниченную степень понимания principium individuationis, поэтому, для более полного осознания сути морали, мы должны более тщательно изучить тип поведения, который попадает под положительное понятие моральной добродетели. Здесь мы находим не просто отказ вредить соседу или ограничивать его свободу действий, чтобы удовлетворить свои незаконные интересы; мы находим искреннее желание помочь ему, когда он страдает, или облегчить его страдания, и сделать это, даже если терпишь лишения или несешь затраты.
370
В качестве примера Шопенгауэр приводит случай, когда необычайно богатый человек почти не тратил свои деньги на себя лично, а отдавал большую их часть бедным, таким образом лишая себя комфорта и удовольствий, которые вполне мог себе позволить. В таких поступках, которые служат примером Menschenliebe (человеколюбия) и являются знаком истинного благородства души, мы видим людей, для которых несчастья других становятся их собственными, так как поступать подобным образом - значит видеть в другом человеке больше чем просто "незнакомца"; "я страдаю в нем, несмотря на то что он не чувствует этого" (ОМ, 18): и, хотя подобный ход размышления может показаться для обычного человека таинственным и непонятным с точки зрения разума, нет сомнения, что такие поступки могут иметь место.
Интересно, что в этой связи Шопенгауэр делает один из своих немногих комплиментов женщинам; хотя "несправедливость и вероломство" - грехи, присущие женщинам, тем не менее они превосходят мужчин в способности сочувствовать другим людям, и их поступки более часто наделены добродетелью любви и доброты.
В общем, теория Шопенгауэра о моральном поведении дает нам возможность более ясно понять причины, которые в итоге привели его к отрицанию нашего обычного ощущения и понимания мира. Итак, было доказано, что не только повседневные и научные категории не могут описать природу человека и его сознания, не только художественные творения и их понимание предполагают выход за границы, установленные обычными знаниями и сознанием, а также что возможно как честное и справедливое поведение, так и альтруистское, причем источник подобного поведения можно понять, только допуская, что мир как "Представление" во всех отношениях обманчив и иллюзорен.
371
Тем не менее, Шопенгауэр был далек от утверждения, что "лучшее знание", которое проявляется в морально правильных действиях, является "абстрактным" или носит теоретический характер; как раз наоборот, он настаивает на том, что "простое понятие истинной добродетели так же не плодотворно, как понятие истинного искусства" (том I), и далее, что "моральное совершенство стоит выше всей теоретической мудрости" (ОМ, 22). Человек может не иметь абсолютно никаких теоретических знаний и все же через свои поступки проявлять глубочайшую проницательность и мудрость, которые он не в состоянии вразумительно произнести и сформулировать в виде какой-либо теории. С этой точки зрения можно сказать, что он не понимает значения своих действий.
Это же относится как к понятию того, что он делает, так и к тому, что побуждает его делать это; в основе всего лежит "чувство", нежели рациональное разъяснение или расчет, и проявляет оно себя во внутреннем ощущении жалости и сострадания к другому человеку, а не в абстрактном применении общих законов Канта или в холодном рассуждении о том, что могло бы дать преимущество или наиболее соответствовать божественной воле (ОМ, 19). Подобным образом такой человек не мог бы объяснить свое чувство удовлетворения от совершения хорошего или бескорыстного поступка, которое кардинально отличается от того ощущения, которое испытывает человек, удовлетворяя эгоистические желания и страсти; также он не может объяснить относительное умиротворение и удовлетворение, которое наполняет сознание того, кто хотя и не совсем ясно, но признает, что внешний мир "однороден с его собственным бытием", а другие люди представляют не что-то отдельное от него, но скорее "его самого".