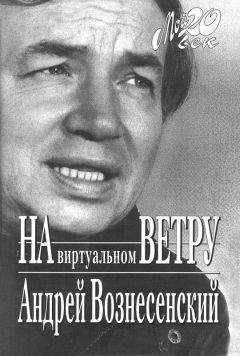В сущности, это были два разных человека - Толстой-писатель, проводящий по десять часов за рабочим столом, и Толстой - душа компании, герой застолий и скандалов. Как это уживается вместе? Как-то уживается. Ведь не один же он такой в нашей литературе.
“…Или же дан ему был талант не от Бога, но от врага рода человеческого” - продолжает Варламов. Еще лучше! Если у кого из русских писателей и был “дьявольский” талант, то только не у Толстого. Да и зачем понадобилось автору биографии до такой степени демонизировать своего героя?
Рассуждая о мотивах творчества Толстого, Варламов делает странный вывод, будто бы им “с самого начала двигала месть” (здесь и далее - курсив мой. - С.Ш.). Сначала он “отомстил и волжскому и заволжскому дворянству, которое столько лет отказывалось его принимать в свои ряды”. Как отомстил? Написал цикл рассказов “Заволжье”, где дал, как говорили в советских учебниках литературы, “галерею портретов” мелкопоместного, разоряющегося дворянства. Непонятно только, почему это надо квалифицировать как месть, а не как, скажем, изображение нравов.
Пьеса “о веселой компании 1911 года”, написанная в соавторстве с М. Волошиным, - это месть литературной богеме Петербурга. Роман “Егор Обозов” - месть декадентскому миру того же Петербурга. “Толстой не просто смеялся над Блоком, он мстил ему. Трудно сказать, за что конкретно и почему ему, а не Сологубу, например, но очевидно мстил”. “…Мстя за политическую и государственную слабость, дурно отзывался о царе-страстотерпце”, “…не простил поражения… потому и вдарил так по Белому движению”. “Пишет в пику эмиграции, желая выплеснуть… свою обиду на людей, его оттолкнувших”. “Лохматый с трубкой - это Эренбург, которому Толстой мог литературно отомстить, но делать этого не стал”. “А еще через несколько лет написал “Золотой ключик”, где снова прошелся по всем”.
Навязчивая тема “мести”, “отмщения” тем более странно выглядит, что мало стыкуется с тем психологическим портретом Толстого, который сам же Варламов рисует: Толстой у него не мрачный мизантроп, а жизнелюбивый, широкий и щедрый человек. Таким же видели его и современники: “Колоритен, беззлобен, добродушен, настоящий русский барин”.
Ладно - Толстой, но то же самое пишет Варламов почти обо всех его “собратьях по перу”: “Эренбург отомстил Толстому… за антисемитские обертоны или за высылку из Парижа”. После чего “приготовил новый роман и новую литературную месть похлеще прежней”. “Булгаковская желчь и горечь, когда он сравнивал, как живет Толстой и как живет он… вся неприязнь к Толстому… сконцентрировалась и вылилась на страницах “Театрального романа””. “Федин вывел (Толстого) в образе несимпатичного драматурга, пижона и эстета Петухова… и, возможно, таким манером отомстил за Бессонова-Блока”. (С чего бы Федину мстить за Блока?) “И то, что Бунин Толстому не отомстил, хотя мог бы…”
Да помилуйте! Что это у нас за литература была, где все только и делали, что мстили друг другу? Будто и не существует иных мотивов, иных побудительных причин для творчества!
Особенно обидно за Ахматову. Вообще-то она к Толстому относилась хорошо, можно сказать, снисходительно, называла его “очаровательным негодяем”, но талант признавала безоговорочно. Варламову это непонятно: “И все-таки в ахматовской приязни много странного. Ведь как раз в ту пору у Ахматовой были все основания чувствовать себя со стороны Толстого оскорбленной”. Речь идет о том, что в 1-й части “Хождения по мукам” Толстой вроде бы ее вывел в образе актрисы Нины Чародеевой. Ну и что? Они все друг друга описывали, Ахматова в том числе (достаточно вспомнить ее “Поэму без героя”). Известно, что толстовский персонаж она на свой счет не приняла, отнеслась спокойно и никак не реагировала. Но Варламову это непонятно, он ищет и находит корысть в ее поведении: “В ту пору у Ахматовой был к нашему герою свой интерес… Он единственный мог дать нужные показания по делу о дуэли между Гумилевым и Волошиным”. Кому дать? Что за корысть Ахматовой? Это в 1925 году. А вот через 30 лет: “В начале 60-х, когда вопрос о дуэли между Гумилевым и Волошиным стал менее актуальным (?!), а Толстого в живых уже не было, надобность в нем как свидетеле отпала, и Ахматова к нему переменилась”.
Дело не в том, как именно относилась к Толстому Ахматова, в разные годы могла по-разному относиться. Пугает логика автора - коль он о ней писал, она обязана относиться к нему плохо - будто речь не о литературе, а об анонимках в партийную организацию. Тем более что в другом месте Варламов сам признает: в 1940 году именно Толстой помог издать, наконец, сборник стихов Ахматовой и даже продвигал его на Сталинскую премию, он же всячески помогал ей в Ташкенте, во время эвакуации. И не только ей, но, например, и сыну Марины Цветаевой (Муру). Он вообще многим помогал, особенно когда стал депутатом и лауреатом. В то же время кому-то другому не помог, не похлопотал, не дал ходу (к примеру, в 1936 году своими критическими высказываниями “потопил” писателя Леонида Добычина).
На всякий добрый, благородный поступок Варламов находит поступок недобрый, неблагородный. Каков же общий баланс в этой бухгалтерии? А никакой.
“Все же неизвестно, какая чаша перевесит на весах его добрых и злых дел…”. Ясное дело, неизвестно. Не нам судить.
Алексей Толстой, конечно, не гений. Но он и не злодей. Он писатель.
И может быть, стоит все-таки оценивать писателя по тому, что он написал, а не по тому, сколько он выпил и наскандалил, с кем дружил и с кем враждовал, кому помог, а кому не смог? Потому что подобного “гамбургского счета” не выдержит, пожалуй, ни один из наших классиков.
О роли и месте Толстого в отечественной литературе биограф также высказывается не напрямую, а “в обход”, гипотетически. Так, в начале книги он пишет, что, живи Толстой в ХIХ веке, он, скорее всего, стал бы еще одним “усадебным” писателем, как Тургенев, Гончаров… Это вряд ли. Писательский темперамент роднит Толстого скорее с Гоголем, а темперамент гражданский вполне мог привести его в стан демократов, решающих вопросы “кто виноват?” и “что делать?”.
Ближе к концу книги Варламов высказывает другое предположение: мол, доживи Толстой до хрущевской оттепели, “можно не сомневаться, что самое яркое и правдивое изображение советской жизни появилось бы в его прозе”.
Но мы-то знаем, что “самое яркое и правдивое изображение советской жизни” вышло в период “оттепели” из-под пера Солженицына. У Толстого подобного личного опыта, подобного знания советской действительности (фронт, ГУЛАГ) не было. Да и сам он к тому времени был бы уже восьмидесятилетним стариком, и в очередной раз менять политическую окраску ему было бы, пожалуй, поздно…
А была ли она у него вообще - политическая окраска?
Красный или белый?
Автор, взявшийся писать биографию Алексея Толстого, неизбежно оказывается перед необходимостью ответить на вопрос: кем же на самом деле был этот человек? Действительно ли он, пройдя через эмиграцию, разочаровался в ней, “сменил вехи” и искренне захотел послужить своим пером, своим талантом уже окрепшей к тому времени (1923 год) Советской власти? Или же он внутренне так и не признал большевиков, не смирился с утратой старой России, а лишь приспособился, притворился и всю дальнейшую жизнь лицемерил - ради благополучия своей семьи, ради того же заработка?
Однозначного ответа на этот принципиальный вопрос Варламов не дает. Но по тому, как он рассказывает об образе жизни Толстого в эмиграции - его постоянном стремлении найти денег, заработать, его способности, несмотря на все трудности, устроить комфортный быт для себя и своей семьи, его барских замашках, страсти ко всяким дорогим “штучкам”, - читатель вправе сделать вывод, что все-таки материальная сторона жизни волновала Толстого больше всего, и в конечном счете именно соображения материального достатка подвигли его на возвращение в Россию.
Здесь хочется обратиться к другой книге о Толстом, вышедшей годом раньше. Это обширная монография об эмигрантском периоде жизни писателя1, написанная его внучкой Еленой Дмитриевной Толстой, преподающей русскую литературу в Иерусалимском университете. Она приводит рассказ Тэффи: “Я виделась с Толстым в Берлине… Стал жаловаться: …Я иссяк. Мне писать не о чем. Мне нужны русские люди и русская земля. Я еще много могу сделать, а здесь я пропал”. Она же ссылается на другого эмигрантского журналиста и писателя - В. Крымова, который пишет: “Я уверен, что никаких вех он не сменял, потому что и прежде никогда, на всем его жизненном пути, никаких вех не было, был большой талант, стремление стать большим писателем”. Елена Толстая заключает: “Конечно, не вошедшая в поговорку любовь к достатку, комфорту и т.д., а прежде всего честолюбие, жажда первенства подталкивали Толстого к поискам новой яркой роли, в которой он не имел бы соперников”.