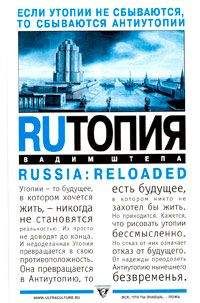Примерно ту же мысль, только более лаконично, выразил писатель Эмиль Чоран:
Утопии для общества — то же, что предназначение для народа. А идеологии — побочный продукт, как бы простейшее выражение мессианских или утопических чаяний.
* * *
Итак, всякую историческую действительность преобразуют именно утописты, взрывая идеологическую структуру прежнего порядка. Однако когда им удается на ее руинах создать «новый социальный порядок», они с фатальностью проигрывают идеологам, считающим дальнейшее воплощение утопии «невозможным» и «неосуществимым».
Пожалуй, наиболее ярким подтверждением этой метаморфозы является судьба коммунизма в России. Социолог Ральф Дарендорф в книге «Тропы из утопии» указывает на очевидное противоречие:
Известно, сколько Ленин потратил времени и энергии на то, чтобы связать реально возможный исход пролетарской революции с образом коммунистического общества, где нет ни классов, ни конфликтов, ни государства, ни разделения труда. Насколько мы знаем, Ленину ни в теории, ни на практике не удалось выйти за пределы «диктатуры пролетариата», и почему-то это нас не изумляет.
Вообще-то как раз в теории «диктатура пролетариата» у Ленина вовсе не была самоцелью. Более того, ранние («дореволюционные») работы коммунистических «основоположников» являются совершенно утопическими. Быть может, именно поэтому они и обладали такой колоссальной энергетикой и притягательностью, оказавшейся способной впоследствии взорвать прежний социальный порядок едва ли не в половине стран мира.
Этот порядок, сложившийся после эпохи европейских буржуазных революций, несмотря на весь пафос «освобождения», предусматривал довольно жесткую социальную структуру, основанную на узкой профессиональной специализации. Тем самым человек обретал черты существа в первую очередь экономического, а все его религиозные взгляды, творческие интересы и личностные особенности, некогда первостепенные (в эпоху Средневековья и Античности), все более отводились на второй план, тогда как главной становилась его роль одномерного «винтика» в неподвластной ему экономической мегамашине. В работе «Немецкая идеология» 1845 года Маркс противопоставлял этому коммунистическое общество, где
никто не ограничен исключительным кругом деятельности, а каждый может совершенствоваться в любой отрасли, общество… создает для меня возможность делать сегодня одно, а завтра — другое, утром охотиться, после полудня ловить рыбу, вечером заниматься скотоводством, после ужина предаваться критике, — как моей душе угодно, — не делая меня в силу этого охотником, рыбаком, пастухом или критиком.
Это положение раннего марксизма парадоксальным образом напоминает «универсального человека» древних традиций! Любопытно, что это «антиэкономическое» утверждение прозвучало из уст автора, которого, напротив, принято упрекать в сведении истории к сугубо экономическим и «классовым» критериям. Известно даже такое апокрифическое высказывание Маркса, обращенное к тем, кто провозгласил себя его «идеологическими последователями» и повергшее их в шок: «Я не марксист!»
Марксизм, как известно, всегда подчеркивает сугубую «научность» своего мировоззрения, противопоставляя его всевозможному «утопизму». Однако в самой сердцевине марксова учения коренится совершенно утопическая («трансцендентная», по Мангейму) идея о «скачке из царства необходимости в царство свободы», порывающая со всеми основами прежнего социального порядка. Причем этот «скачок» должен быть совершен не с целью замены одного порядка другим, а как выход вообще из прежних представлений об этом порядке. Иными словами, чаемый «новый социальный порядок» принципиально не может быть описан в терминах прежнего. Поэтому у Маркса довольно редки характерные для других утопистов подробные описания этого будущего общества. Он скорее апеллирует к интуиции читателя, и с этой точки зрения марксизм действительно «научен» — но только не в том рациональном понимании «научности», которое утвердилось с «Эпохи Просвещения», а в более фундаментальном и парадоксальном смысле — как и воспринимались науки в традиционных цивилизациях, где «в основе всего лежит интеллектуальная интуиция».[4]
Сакральные науки древних цивилизаций были глубоко осведомлены о циклическом устройстве мироздания.[5] Частным применением этого принципа являлось знание о смене исторических эпох как о конце прежнего и начале нового цикла, между которыми мир словно бы проходит сквозь узкую апокалиптическую воронку, доступную лишь «избранным». Наиболее известной религиозной иллюстрацией этого тезиса является миф о Всемирном Потопе и Ноевом Ковчеге. Марксистскую историософию в этой связи вполне можно счесть светской экспликацией того же самого мифа. Только роль тесного Ковчега в ней играет «диктатура пролетариата», которая, по Марксу
составляет лишь переход к уничтожению всяких классов и к обществу без классов.[6]
«Диктатура пролетариата», таким образом, вовсе не является у Маркса самоцелью. Она лишь кратковременный этап — опасный, рискованный, но необходимый для полного преодоления прежнего социального порядка, для того, чтобы освободить место для рождения нового, бесклассового общества.[7] Как оно будет устроено — Маркс не предсказывает, сосредотачиваясь лишь на том, что именно необходимо преодолеть в этом «переходе», и из этого, по принципу «от противного», можно сделать вывод о том, чего за ним более быть не должно. Так, главной задачей «диктатуры пролетариата» после опыта Парижской коммуны он ставит:
не передать из одних рук в другие бюрократически-военную государственную машину, как бывало до сих пор, а сломать ее. (курсив Маркса)
В российской истории, как мы знаем, все случилось с точностью до наоборот: «диктатура пролетариата» не только не сломала эту машину, но сама превратилась в ее жесточайшую, невиданную доселе в истории модель. Именно этот момент знаменует собой проигрыш утопистов идеологам, которые, не успев взять власть, начинают считать целью ее саму, а не то, ради чего совершалась революция. Причем порою эта грань между утопистами и идеологами пролегает не между разными людьми, а внутри одной и той же личности — «до» и «после» революции. И пример Ленина здесь наиболее показателен.
В своей знаменитой дореволюционной работе «Государство и революция» он выражается с резкостью радикального анархиста:
Пока есть государство, нет свободы. Когда будет свобода, не будет государства.
Мы ставим своей конечной целью уничтожение государства, т. е. всякого организованного и систематического насилия, всякого насилия над людьми вообще.
Ход событий вынуждает революцию концентрировать все силы разрушения против государственной власти, вынуждает поставить задачей не улучшение государственной машины, а разрушение, уничтожение ее.
Однако, описывая тактику достижения этой цели, он впадает в излюбленную марксистами лукавую «диалектическую противоположность»:
Мы вовсе не расходимся с анархистами по вопросу об отмене государства, как цели. Мы утверждаем, что для достижения этой цели необходимо временное использование орудий, средств, приемов государственной власти против эксплуататоров, как для уничтожения классов необходима временная диктатура угнетенного класса.
Но, как известно из истории СССР, это «временное» стало «постоянным». Такая же инверсия постигла и другую ленинскую идею — о том, что после революции государственные функции возьмет на себя
уже большинство населения, а не меньшинство, как бывало всегда и при рабстве, и при крепостничестве, и при наемном рабстве. А раз большинство народа само подавляет своих угнетателей, то «особой силы» для подавления уже не нужно! В этом смысле государство начинает отмирать. Вместо особых учреждений привилегированного меньшинства (привилегированное чиновничество, начальство постоянной армии), само большинство может непосредственно выполнять это, а чем более всенародным становится самое выполнение функций государственной власти, тем меньше становится надобности в этой власти.
Опять же, как известно, исполнение этих функций все-таки досталось именно «привилегированному меньшинству» из новой советской номенклатуры и ее карательных органов. В чем же причина того, что средства вытеснили и в конечном итоге подменили собою цель революции? На этот вопрос лучше всего ответил в 1919 году, придя к власти, сам Ленин:
Мы признаем свободу и равенство только для тех, кто помогает пролетариату победить буржуазию.