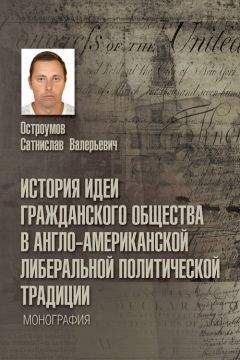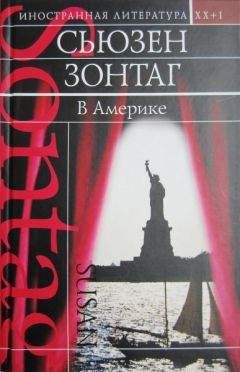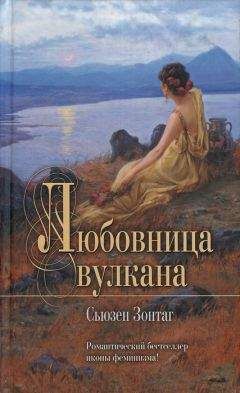Повторяющиеся метафоры карт и планов, памяти и сна, лабиринтов и аркад, перспектив и панорам отсылают к определенному видению города - и определенному образу жизни. Париж, пишет Беньямин, “научил меня искусству скитальчества”. Подлинная природа города раскрылась ему не в Берлине, а в Париже, где он часто бывал при Веймарской республике и жил эмигрантом с тридцать третьего года вплоть до самоубийства при попытке выбраться из оккупированной Франции в сороковом, - точней, раскрылась в Париже сюрреалистских романов (бретоновской “Нади”, ”Парижского крестьянина” Арагона). С помощью этих метафор Беньямин указывает на более общую проблему ориентиров и поднимает планку ее трудности и сложности. (Лабиринт - это место, где человек теряется.) Кроме того, он вводит тему запретного и доступа к запретному усилием духа, которое равнозначно физическому действию. “Все это хитросплетение улиц распахивается по первому знаку продажной любви”, - пишет он в “Берлинской хронике”, которая начинается образом Ариадны - блудницы, впервые переводящей мальчика из хорошей семьи через “порог его социального класса”. Кроме всего прочего, метафора лабиринта дает понять, какие преграды громоздил перед Беньямином его собственный темперамент.
Влияние Сатурна делает человека “безвольным, нерешительным, нерасторопным”, пишет он в “Происхождении немецкой барочной драмы” (1928). Нерасторопность - одна из черт меланхолического темперамента. Другая - неуклюжесть из-за слишком ясного сознания перед собой больших возможностей, из-за слишком смутного сознания у себя малой практической сметки. Прибавьте упрямство - из-за стремления во всем быть первым, причем на собственных условиях. Беньямин вспоминает свое упрямство во время детских прогулок с матерью - та превращала самый пустячный шаг в испытание способностей сына к практической жизни, чем лишь укрепляла в его натуре неуклюжесть (“я до сих пор не умею сварить чашку кофе” ) и строптивость мечтателя. “Моя привычка выглядеть мешкотней, нескладней, бестолковей, чем я на самом деле есть, берет начало именно в этих прогулках, отсюда и главная подстерегающая меня опасность: втайне считать себя куда проворней, ловчей и проницательней, чем я есть на самом деле”. От этого же упрямства, наконец, и “сосредоточенный взгляд, который, кажется, видит совсем не то, на что смотрит”.
“Улица с односторонним движением” - очищенный опыт писателя и влюбленного (она посвящена Асе Лацис, “без которой бы не было этой книги” ), опыт, о котором можно догадаться из начальных слов о ситуации писателя, где нащупывается тема революционной морали, и финала “К Планетарию” - этого гимна союзу техники с природой и любовному самозабвению. Беньямин умел говорить о себе с большей откровенностью, только если шел от воспоминаний, а не от текущего опыта, - если писал о детстве. Тогда, на удалении, он мог исследовать собственную жизнь, как картографируемое пространство. Прямота и сила болезненных чувств “Берлинского детства” и “Берлинской хроники” возможны лишь потому, что автор нашел единственно удобоваримый, совершенно аналитический способ рассказывать о прошлом. Он вызывает в памяти события как затравку будущей на них реакции, места - как след вложенных в них переживаний, других - как посредников при встрече с собой, чувства и поступки - в качестве отсылки на завтрашние страсти и таящиеся в них поражения. Фантазии о чудовищах, сорвавшихся с цепи в большом зале, тем временем как его родители развлекают своих друзей, - прообраз беньяминовского бунта против собственного класса; мечты о жизни, где можно вволю поспать вместо того, чтобы засветло тащиться в школу, станут явью позже, когда - после книги о барочной драме, так и не сумевшей обеспечить ему университетскую кафедру, - он поймет, что “все надежды на место и спокойную жизнь были впустую”; его манера прогуливаться с матерью, “с педантичной заботливостью” отставая от нее ровно на шаг, - прообраз его будущего “саботажа любой реальной жизни в обществе”.
Воскрешая прошлое, Беньямин видит в нем предвестие будущего, поскольку работа памяти (“чтение себя с конца”, как он ее называл) останавливает время. При этом он вовсе не упорядочивает воспоминания хронологически, почему и отказывается от термина “автобиография”: время здесь попросту упразднено. (“Автобиография имеет дело со временем, с последовательностью, непрерывным ходом жизни, - писал он в “Берлинской хронике”. - А я говорю о пространстве, о мгновениях и разрывах”.) Переводчик Пруста, Беньямин оставил фрагменты книги, которую мог бы окрестить “В поисках утраченных пространств”. Инсценировка прошедшего, память превращает ход событий в ряд картин. Беньямин стремится не столько вернуть прошлое, сколько его понять - уплотнить до обозримых форм, исходных структур.
Драматурги барокко, пишет он в “Происхождении немецкой барочной драмы”, “схватывают и анализируют движение времени в образах пространства”. Книга о барочной драме - куда больше, нежели первый отчет Беньямина о том, что значит обращать время в пространство: это видно по его словам о чувствах, которые кроются за подобной метаморфозой. С головой поглощенный меланхолическим сознанием “печальной хроники мировых событий”, этого безостановочного упадка, барочный драматург стремится вырваться из истории, восстановить “вневременность рая”. Для барочного образа чувств в семнадцатом веке характерно “панорамное” видение истории: “история растворяется в сценической обстановке”. В “Берлинской хронике” Беньямин растворяет в обстановке свою жизнь. Потомок барочной сцены - город сюрреалистов: метафизический ландшафт, в чьих сновиденных пространствах людям отведено “краткое существование теней”, подобно девятнадцатилетнему поэту, чье самоубийство, самая острая боль студенческих лет Беньямина, сгустилось в память о комнатах, где жил погибший друг.
Характерно, что сквозные беньяминовские темы - это способы так или иначе представлять мир в пространственных формах; мысль и опыт для него воплощают, например, руины. Понять что-то - значит понять его топографию: как его вычертить на карте. И вместе с тем - как в нем затеряться.
Время для Сатурна - синоним гнета, несовершенства, повторения, ограниченности. Во времени всякий из нас - лишь то, что он есть (и всегда был). Иное дело - пространство: здесь каждый может стать другим. Слабая ориентировка и неспособность читать картографию улиц вылились у Беньямина в страсть к путешествиям и виртуозное искусство скитальчества. Время не просто сносит с курса, оно толкает в спину, загоняя в узкий лаз из настоящего в будущее. Пространство же распахнуто, богато возможностями, местами, перекрестками, аркадами, боковыми ходами, путями назад, тупиками, улицами с односторонним движением. Может быть, возможностей даже слишком много. Поэтому Сатурн нерасторопен, склонен к нерешительности, но иногда бросается прокладывать дорогу ножом. А то и обращает нож против самого себя.
Отличительная черта Сатурна - самоотчетность, непрерывные отношения с собой, всегда не готовым и никогда не окончательным. Личность - это текст, он требует дешифровки (поэтому Сатурн - знак интеллектуалов). Личность - это замысел, он жаждет воплощения. (А потому Сатурн - знак художников и мучеников, всех, кого “манит чистая красота неудачи”, как напишет Беньямин о Кафке.) Процесс воплощения личности, исполнения трудов всегда слишком медленен. Сатурн непрерывно отстает от себя.
Мир от него отдален и, если приближается, то постепенно. В “Берлинском детстве” Беньямин говорит про свою “склонность видеть все, к чему тянет, как бы подступающим издалека”, - мечты, которым он, ребенком часто хворавший, часами предавался в постели. “Скорей всего, отсюда во мне и то, что другие называют терпением, но в чем на самом деле никакой добродетели нет”. (Разумеется, другими это переживалось именно как терпение, как добродетель. Шолем описывал Беньямина как “самое терпеливое существо, которое знал в жизни”.)
И все же без чего-то вроде долготерпения меланхолику в его трудах по дешифровке не обойтись. Пруста завораживал “тайный язык салонов” , отмечает Беньямин; его самого притягивали коды более лаконичные. Он собирал книги эмблем, любил составлять анаграммы, забавлялся псевдонимами. Его пристрастие к псевдонимам куда старше необходимости в них для бежавшего из Германии еврея, который с 1933 по 1936 год продолжал печатать в немецких журналах рецензии как Детлев Хольц, - это имя стоит и на титуле его последней прижизненной книги “Deutsche Menschen”, в тридцать шестом году опубликованной в Швейцарии. В загадочном наброске под названием “Агесилаус Сантандер”, написанном в 1933 году во французском местечке Ивица, Беньямин рассказывает про свою старую мечту о тайном имени; имя заглавного героя, восходящее, в свою очередь, к бережно хранимому Беньямином рисунку Пауля Клее “Ангелус Новус”, - это, как замечает Шолем, анаграмма немецкого “Der Angelus Satanas” Беньямин, по словам Шолема, был “сверхъестественных способностей” графологом, хотя “позднее этот свой дар не афишировал”.