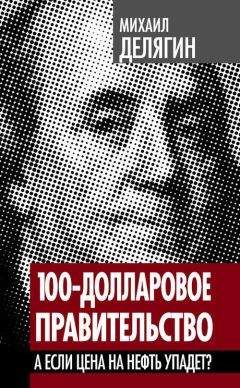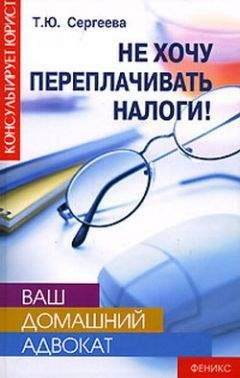Да, большевики боролись с самодержавием, с царским режимом, но власть они в прямом смысле слова подобрали, когда та валялась на земле. И помнили это хорошо: десять лет после 1917 года они называли Великий Октябрь не революцией, а всего лишь переворотом. И это действительно был переворот: группа революционеров и матросов пришла в Зимний дворец (совсем не так, как это было потом показано в знаменитой картине Эйзенштейна, до сих пор иногда выдаваемой за документальную съемку), и там не оказалось никого, кто всерьез был готов защищать потерявшееся в истории Временное правительство, – как несколькими месяцами раньше практически никто не был готов защищать царя.
Тогда брат еще не пошел на брата, до весны 1918 года развитие событий шло удивительно мирно, даже иногда трогательно в своей наивности, – когда, например, офицеров, даже оказывавших сопротивление, действительно отпускали под честное офицерское слово больше никогда не воевать с новой властью. А офицеры очень хорошо помнили, как после Февральской революции их убивали, и на фронте, и в тылу, часто просто за наличие формы или за попытку отдать тот или иной приказ.
Ну, а весной пошло: с одной стороны серьезное сопротивление, с другой – раскрестьянивание, расказачивание, вплоть до национализации женщин и прочего безумия.
Но закончим все же с отречением.
Отречение Николая Второго действительно написано ненадлежащим образом, но ведь и весь царизм был в высокой степени неформальным инструментом.
Никакого закона о престолонаследии в России не существовало – и новый царь всякий раз, по сути дела, неформально избирался правящей элитой! Наша монархия, наше самодержавие опиралось на выборы, пусть даже не всенародные и осуществляемые весьма опосредованно, в форме государственного переворота или отказа от него, но все равно выборы, – это была выборная монархия!
Может быть, Николай, отрекаясь, думал о том, что отречение, написанное ненадлежащим образом, не является юридическим документом, но в то время его уже так ненавидели, что таковым документом было сочтено даже оно.
Очень интересен расклад политических сил на тот момент.
Уникальность нашей страны проявляется и в действительно уникальной причине того, что у нас нет или почти нет собственной толковой истории. Ведь история всегда очень идеологизирована, это родовая травма данной науки. История – вынужденно – не столько ищет истину, сколько формирует нацию. Поэтому очень сложно заниматься исследованиями: приходится понимать, что, если результаты этих исследований окажутся противоречащими внутренним потребностям коллективного сознания нации, они либо никогда не будут признаны (или, как минимум, не будут популярными), либо приведут к разрушению нации, к катастрофе.
Так вот, уникальность нашей страны проявляется и в том, что ее развитие примерно поровну определялось внутренними и внешними силами. Российское общество очень открыто внешнему влиянию, наш исторический способ существования – приятие чужой энергии и превращение ее в свою. Мы принимаем в себя внешнее влияние, перерабатываем его, используем в своих интересах: в этом секрет силы русской культуры, русской цивилизации, – и к сожалению, от этого же и страдаем.
Большинство историков неосознанно идеологизированы – и потому не могут принять это равное влияние внешних и внутренних факторов на развитие России. Для патриота-почвенника осознать, что народ-богоносец определяет свою жизнь не в большей мере, чем совершенно посторонние богомерзкие масоны и либералы, так же невыносимо, как для западника – осознать, что это быдло, эти холопы влияют на свою страну ничуть не в меньшей степени, чем блистательные ясновельможные паны (или «все мировое сообщество» – меняются только символы, суть практически не меняется).
К 1917 году главным фактором общественной жизни стало абсолютное, массовое отторжение царизма из-за чудовищной империалистической войны, которая перемалывала целые поколения – мучительно, страшно, изуверски и откровенно бессмысленно. Никому из обычных людей это не было нужно, все изнемогли от крови и лишений, все жаждали мира.
Первичный, истерический всплеск патриотизма закончился очень быстро, и начались бессмысленные, чудовищные, бесконечные жертвы. Кому-то грезился Константинополь, кому-то хотелось отобрать у России Польшу, но для основных участников войны она так и не стала отечественной, потому что слишком явно и откровенно с самого начала была империалистической.
Царь и вся система управления были обязаны отреагировать на эту бессмысленность и задуматься, как выйти из конфликта. Ведь война была братоубийственной даже для императоров: все королевские семьи Европы находились в родстве.
Но они не смогли захотеть это сделать, и в итоге Первая мировая уничтожила все империи, кроме Британской.
Парадокс России заключался, с одной стороны, в полном взаимном отторжении общества и власти, замкнувшейся на себя. Власть просто закрыла все окна, все двери и перестала интересоваться, что там про нее думает общество. С другой стороны, эта абсолютно недемократичная власть старалась быть гуманной: не попадающие в узкие категории совершенно нежелательных лиц (например террористов) могли совершенно спокойно бороться с ней. И наконец, открытая внешнему миру Россия находилась под очень жестким давлением внешних сил. Немцы хотели сепаратного мира, англичане и французы всеми силами старались его не допустить – и Россия стала еще одним полем их боя.
При этом царская Россия отнюдь не была диктатурой: наша монархия являлась очень мягким авторитаризмом, во многом вполне правовым государством, в котором спецслужбы в отсутствие закона, специально регламентирующего их действия и наделявшего их особыми правами, оказались беспомощными. А закона о спецслужбах не существовало из-за недоразвитости парламентской системы, недоразвитости демократии: парламент еще не мог реагировать на потребности общества, даже в области обеспечения его безопасности, а самодержавие было уже слишком косно, чтобы эти потребности замечать.
Все решения в этой сфере принимал лично государь, как сейчас говорят, – и он оказался весьма слабым управленцем.
В результате отречение царя явилось в чистом виде победой Антанты: победой англо-французского влияния и финансово связанной с этими странами российской буржуазии. Февраль действительно был классической буржуазно-демократической революцией, но в условиях крайне слабого развития капитализма и, соответственно, слабости и несамостоятельности буржуазии.
Семьдесят процентов тогдашних базовых отраслей – горной промышленности и машиностроения – принадлежало иностранному капиталу, представители которого потом, в настоящую революцию, вместо того, чтобы с пулеметом лечь перед заводоуправлением, просто уехали домой, списав российскую часть бизнеса в убытки.
Остальная, собственно российская часть крупного бизнеса, была теснейшим образом связана с царским режимом. Это были не предприниматели, а, выражаясь по-современному, олигархи, которые очень быстро поняли, что спекуляции безнаказанны и приносят значительно большую прибыль, чем собственно производство.
В результате они в тесном сотрудничестве с коррумпированными чиновниками начали создавать искусственный дефицит везде – от продовольствия до оружия.
Это непредставимо для современного сознания: производители оружия и его перепродавцы устроили, по сути дела, бойкот фронту. Из-за спекуляций фронт не получал патронов, снарядов, винтовок. Да, в критические моменты Великой Отечественной войны бывало такое, что ополченцам приходилось ходить с одной винтовкой на троих на танки, но ведь и в Первую мировую войну происходило нечто похожее. Не хватало патронов, не хватало снарядов, а на самом деле их было столько, что хватило на всю Гражданскую, на все конфликты двадцатых и тридцатых годов, и в начале Великой Отечественной этими патронами и снарядами еще довоевывали!
Февральская революция началась с восстания в очередях, когда женщины кричали: «Что ж вы с нами делаете?» А страна была завалена зерном, его девать было некуда – как гречку некуда было девать осенью 2010 года, когда искусственно создали ее дефицит.
Непосредственный толчок к Февральской революции дала, выражаясь современным языком, мелкая спекуляция чиновников средней руки мэрии Санкт-Петербурга, но всесокрушающим политическим фактором, когда требовать отречения своего главнокомандующего к нему приехали генералы с красными бантами, она стала лишь в результате мощного давления стран Антанты. Их интерес был прост: они боялись примирения русского царя с его немецким родственником, желали распространения на Россию демократического устройства общества и надеялись ослабить Россию, чтобы не допустить ее в полной мере на послевоенный пир победителей.