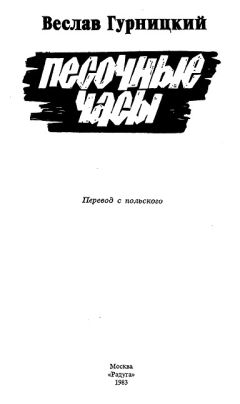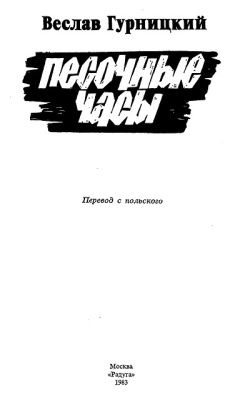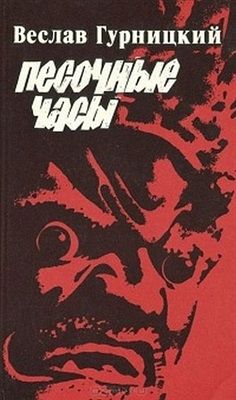Почему, собственно говоря, я не могу во всеуслышание сказать, что считаю более правым делом ликвидацию бессовестных паразитов, нежели сохранение созданной ими системы? Может, я должен еще сожалеть о судьбе четырнадцатого далай-ламы, выехавшего из золотого дворца в Лхассе?
У меня нет повода оплакивать судьбу буддийского духовенства. Но все-таки мне кажется несколько невероятным — уничтожить, как крыс, мудрецов, благодаря которым кхмерская культура пережила одиннадцать веков нашествий, разгромов, завоеваний, чужеземного колониального рабства. Действительно ли существовали какие-то предпосылки, которыми обосновывалась столь широкая операция? Я слишком мало знаю о странах Индокитая, чтобы уже сейчас иметь свою точку зрения по атому вопросу. Может, они просто оказывали вооруженное сопротивление проведению аграрной реформы?
XV. О нет, говорит молодой человек из ведомства культуры. В Кампучии у монастырей никогда не было столько земли, сколько в Тибете. Наш буддизм был иным — простонародным, более склонным к созерцанию, нежели к накоплению богатств. Духовенство жило очень скромно, пользовалось уважением населения, делило с ним все несчастья. А «кру сангкриэч» вообще не имели никакой собственности, жили подаянием и возделывали небольшие огороды при пагодах. Клика Пол Пота — Иенг Сари уничтожила буддийское духовенство по соображениям исключительно идейного порядка. Они не собирались терпеть никаких конкурентов, никаких претендентов на власть над умами. Духовенству поменьше рангом велели собственноручно сжечь оранжевые одежды и направили в колонны, отнеся их к третьей или четвертой категории. Высших рангом расстреляли немедленно, в первую же неделю после захвата власти. Им еще повезло, что их расстреляли: это быстро и без страданий, а многих убивали мотыгами, что длится дольше и очень мучительно.
Молодой человек похлопывает по автомату часового, потом указывает себе на грудь и, наконец, ребром ладони бьет себя по затылку.
Пожалуйста, выясним как можно точнее: неужели в Кампучии нынче действительно нет никого, кто сумел бы объяснить разницу между тремя, четырьмя и пятью башнями в государственном гербе?
Не знаю, говорит молодой человек. Кажется, никого. Пять башен мы взяли потому, что они были когда-то в старом государственном гербе, еще до французского владычества. Кажется, кто-то из высшего духовенства случайно уцелел, его зовут Лонг Сим, он подписал манифест ЕФНСК. Но он еще молод, ему не больше пятидесяти. А эти гербовые тонкости знали только старики, как раз те, кто был уничтожен. Впрочем, мы постараемся это узнать.
Тут молодой человек вынимает великолепный блокнот в оправе из телячьей кожи (карманный календарь на 1974 год, который выдавался в подарок клиентам «Banque Militaire Khmer») и записывает, что надо выяснить вопрос насчет башен. В скобках: pour le camarade polonais[14].
XVI. Мы предъявили пограничникам наши визы, выданные в Ханое посольством нового правительства. Поначалу они разглядывали визы очень внимательно, пожалуй, чересчур даже сосредоточенно, а затем на их юных лицах появилась широкая, дружелюбная улыбка, потом всех нас скопом пропустили, одним жестом руки.
Мы въехали в Кампучию. Я записал время: 4 февраля 1979 года, 5 часов 48 минут утра.
Итак, здесь действительно убивали людей мотыгами, делили на категории, объявили войну истории? Чему здесь служили автоматы крестьян, простого народа? Я не раз читал об этом, но чего не пишут в западной прессе. Слишком часто приходилось сталкиваться с выдумкой «made-by-you-know-whom»[15], чтобы я так сразу и поверил! Надо быть очень внимательным. Это может оказаться труднее, чем казалось четверть часа назад.
XVII. Вскоре выяснилось, что путешествовать по Кампучии армейским вездеходом — настоящая пытка. Полпотовские саперы вывели из строя практически все дороги с твердым покрытием, не только постоянным, но и временным. Каждые семьдесят или сто метров проезжую часть пересекает узкая канава глубиной в двадцать сантиметров. Пробитая киркой до самой нижней глиняной подушки, канава напоминает рубленую рану после удара топором.
Уничтожение дорог только отчасти можно мотивировать военными соображениями. В основе же лежали, как нам было объяснено, главным образом идеологические постулаты, доктрина повсеместной прикрепленности населения, ненависть ко всем механическим средствам передвижения, ставшая уже философией. Народ, как твердили полпотовские идеологи, получает в коммунах все необходимое для жизни и, следовательно, не имеет никаких поводов передвигаться по стране. Если же кто и ощутит такую потребность, то это желание неестественное, извращенное, порожденное капиталистическими общественными отношениями, которые всегда заставляли думать, что где-то в другом месте дело обстоит лучше или по крайней мере иначе. Впрочем, такое желание было абсурдно, не имело смысла: самовольный уход из коммуны карался чаще всего смертью, как дезертирство с трудового фронта, а разрешения принципиально не выдавались, так как не было такой необходимости. Почта перестала существовать. Медицинское обслуживание было ликвидировано. Товарообмен прекратился. Поиски родных, а тем более поездки к ним не допускались — ибо узы крови не входили в число понятий словаря «революционных» терминов.
Разрушение дорог началось во второй половине 1975 года. Оно продолжалось до последних месяцев 1978 года, в заключительной фазе уничтожению подлежали мосты и насыпи. Трех лет более чем достаточно для страны со столь редкой сетью дорог. Еще долго каждая автомобильная поездка по Кампучии будет почти непереносимым физическим испытанием. Легковым автомашинам здесь вообще делать нечего, а вездеход — это выносливая фронтовая машина для людей, привыкших к неудобствам. Неизвестно, есть ли у нее какие-либо рессоры или амортизаторы. В таком транспортном средстве по кампучийским дорогам передвигаться куда сложнее, чем по лесным чащам: сцепление, пepвaя скорость, резкое торможение, подскок, барахтанье в щели, опять первая скорость, опять тормоз до упора. Я высчитал, что средняя скорость ни разу не превысила пятнадцати километров в час.
Это важная подробность. Если хочешь выполнить. здесь какую-нибудь полезную работу, надо помнить, что передвижение по Кампучии — это, в сущности, переползание. Через несколько часов езды начинают болеть почки, плечи, шея, мышцы живота. Во сне я все время чувствовал удары собственного тела о борт вездехода, голова стукалась о брезентовую крышу, спина вспухла от беспорядочных ударов об автоматы охраны. Этому не было конца.
XVIII. На восемнадцатом километре от границы мы увидели первых жителей. Вообще-то нет, не жителей, это слово содержит в себе понятие оседлости, постоянства, стабильности. Те же, кого мы встретили, являлись квинтэссенцией движения, перемещения, устремленности. Крестьяне из провинции Свайриенг возвращались к своим очагам, которые наверняка не уцелели: мы-то ехали от границы и прекрасно видели, что в этой выжженной, развороченной пустыне не осталось ни одной хижины, вообще ничего, кроме разрушенных пагод и кучек пепла. Пепелищ было столько, что мы вскоре перестали их фотографировать. Даже ощеренные зубы демонов во дворах быстро потеряли новизну.
Но крестьянам было все равно. Они хотели уйти как можно дальше от ада, из которого удалось вырваться, и как можно ближе к той стороне, которую по-прежнему считали родной.
Они походили бы на пестрый цыганский табор, если бы не шли в полном молчании, под пронзительный скрип колес, без единой улыбки, как на похоронах, вяло, чуть ли не машинально. Старые женщины в лохмотьях, с коротко остриженными головами толкали перед собой какие-то невероятного вида повозки, собранные из остатков велосипедов, прутьев, поломанных приводных колес, влекомые на одном ободе и ободранных полозьях из пандануса. Время от времени попадался старый буйвол с влажными, полными скорби и отчаяния глазами, он тянул высокую, с одноэтажный дом, пирамиду всякой старой рухляди, обломков, барахла, помятых чайников, дырявых стульев, свернутых циновок. Внутри такой пирамиды мелькали иногда нахохленные куры или испуганный щенок с мокрым брюшком. Но пирамиды принадлежали местным крезам, группам человек из двадцати, где каждый что-то по дороге собрал, положил, добавил. А подавляющее большинство в этом призрачном шествии составляли понурившиеся бедняки, все имущество которых умещалось на маленькой тележке. Иногда они тащили его на бамбуковом коромысле, переступая с ноги на ногу, стремясь, чтобы тяжесть равномерно распределялась между руками, ключицей и позвоночником.
У голых апатичных детей вздулись животы от маниоки, волосы выцвели от голода, лица почернели от пыли и грязи. Они шли и шли; казалось, что колонна бесконечна, что молчаливое шествие тянется от самой таиландской границы, может, даже с тибетских нагорий, из каких-то вековечных глубин «мертвого сердца» Азии. Некоторые тележки издавали раздирающий уши скрип, другие громыхали и резко наклонялись у каждой перерезавшей дорогу щели, были и такие, что катились только на одном колесе, а ступицу второго поддерживали чьи-то руки. Толкали, тянули, упирались в дышла, несли узелки на голове, на руках, на спине и опять на плоских гнущихся коромыслах, на голове, на животе.