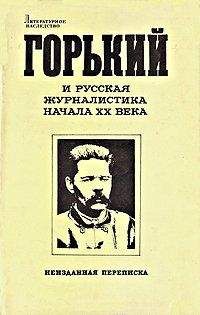Как я уже заметил, Тургенев все-таки не был вполне европейцем. Он, даже пристроив своего героя к какому-нибудь местечку при мировоззрении, всегда чувствовал, что как будто еще не все сделано, и обыкновенно заканчивал свои произведения кратким лирическим отступлением.
Например, окончание того же "Рудина". Лежнев выяснил уже Рудину его общественное значение и оправдал "судьбу". Кажется, чего еще? Можно было бы и покончить на этом. Но Тургенев счел необходимым сделать еще приписку: "Лежнев долго ходил взад и вперед по комнате, остановился перед окном, подумал, промолвил вполголоса "бедняга" и, сев за стол, начал писать письмо к своей жене. А на дворе поднялся ветер и завыл зловещим завываньем, тяжело и злобно ударяясь в звенящие стекла. Наступила долгая осенняя ночь. Хорошо тому, кто в такие ночи сидит под кровом дома, у кого есть теплый уголок ... И да поможет Господь всем бесприютным скитальцам!"
Зачем Тургенев, европейский человек, веровавший в науку, прогресс, цивилизацию и подобные вещи, все же вспомнил о Боге и о Божеской помощи — понятиях давно и безнадежно осужденных — в конце романа, в котором никто серьезно о Боге не говорит? И главное, ведь все знали, что Тургенев Бога не признавал. Не лучше было бы ему совсем промолчать или сказать, как Ницше, что бесприютным скитальцам никто никогда не поможет. И что, стало быть, мировоззрение без Бога, как бы научно оно ни было, ничего не объясняет и ни с чем не примиряет. Так что, пожалуй, не мешает поднять вопрос — на коего дьявола и придумывать всякие мировоззрения? Но Тургенев все радел об общественной пользе, и ему казалось, что без мировоззрения придешь к нигилизму, и он спасался под сенью слов, которые в его глазах не имели никакого смысла. В такого рода лжи он не видел ничего предосудительного, а обличения в обмане не боялся. Он отлично знал, что всякого рода законченность уже тем хороша, что она не оставляет места для новых комедий дальнейших разговоров. Нужно только поставить точку и написать большими буквами слово "к о н е ц", и читатели будут рады радешеньки, что сам учитель нашел возможным прекратить дальнейшее движение мысли, а разумеется, раз уж говорится о Боге, то больше не о чем спрашивать.
В таком же роде, как и "Рудин", оказалось "Дворянское гнездо". Лаврецкий, через восемь лет после истории с Лизой, вновь возвращается в Калитинский дом: "В течение этих восьми лет совершился, наконец, перелом в его жизни, тот перелом, которого многие не испытывают, но без которого нельзя остаться порядочным человеком до конца: он действительно перестал думать о собственном счастье, о своекорыстных целях. Он утих и, к чему таить правду? постарел не одним лицом и телом, постарел душою; сохранить до старостя сердце молодым, как говорят иные, и трудно и почти смешно; тот уже может быть доволен, кто не утратил веры в добро, постоянства воли, охоты к деятельности. Лаврецкий имел право быть довольным: он сделался действительно хорошим хозяином, действительно выучился пахать землю и трудился не для одного себя; он, насколько мог, обеспечил и упрочил быт своих крестьян." [Т., "Дворянское гнездо", т.3, стр.396.]
Здесь идет речь об одном из наиболее занимавших Тургенева жизненных положений. Человеку, погубившему свою молодость, судьба на мгновенье посылает надежду, и тотчас отнимает. Как принять это? Лаврецкий решает, что нужно принять без упрека и ожесточения. Не выпало счастья на долю — не беда: исполняй свой долг. Он устроил "насколько мог" своих мужиков. Правда, у Тургенева об этом только два слова сказано. Уже с Пушкина пошел у нас такой обычай: интересные герои всегда устраивают своих мужиков, но как — об этом подробно не рассказывается. Про Онегина сообщается:
Ярем он барщины суровой
Оброком легким заменил,
И раб судьбу благословил.
Обстоятельства всегда так складываются, что и долг можно исполнить и не утратить благородства характера. Видно, героев, даже очень благородных, рискованно ставить в затруднительное материальное положение. Ибо нужен утешающий конец, — нужно, чтобы "вера в добро" сохранилась во что бы то ни стало. Зачем это нужно? — спросят читатели. На это ответа не будет. Это читатель сам должен знать. Но как "сохранить веру в добро", Тургенев объяснит с откровенностью, не оставляющей желать ничего большего для тех, кто хочет добраться до последних источников наших понятий "о добре". Вот заключение к "Дворянскому гнезду" целиком: "- И конец? — спросит, может быть, неудовлетворенный читатель. А что же сделалось потом с Лаврецким? С Лизой? Но что же сказать о людях, еще живых, но уже сошедших с земного поприща, зачем возвращаться к ним? Говорят, Лаврецкий посетил тот отдаленный монастырь, куда скрылась Лиза, и увидел ее. Переходя с клироса на клирос, она прошла близко мимо него; прошла ровной, торопливо-смиренной походкой монахини и не взглянула на него; только ресницы обращенного к нему глаза чуть-чуть дрогнули, только еще ниже наклонила она свое исхудалое лицо, и пальцы сжатых рук, перевитые четками, еще крепче прижались друг к другу. Что подумали, что почувствовали оба? Кто узнает? Кто скажет? Есть такие мгновения в жизни, такие чувства... на них можно только указать — и пройти мимо..." [т.3, стр.397.]
Кто узнает, что почувствовали оба?.. Но зачем узнавать?! Нужно только научиться "проходить мимо", всего, что носит загадочный и проблематический характер! Нужно только уметь носить шоры на глазах — и получится возможность сохранить "веру в добро". Если бы Лаврецкий побольше всматривался и прислушивался к своим "чувствам" и не забывал такие мгновения, как свою встречу с Лизой в монастыре, — мог ли бы он остаться довольным собой порядочным человеком и забыть о "своекорыстных" целях?
По наблюдениям Тургенева, в жизни можно и даже должно уметь не видеть и не думать, когда нужно. И опять-таки это не его наблюдение — это результат европейского опыта, который учит, как высшей и не требующей проверки последней истине, что в жизни есть нужные и ненужные люди, и что ненужные люди обязаны хоть тем оправдать себя, что они охотно и радостно поступают на службу к нужным. Лаврецкий и Лиза свихнулись в жизни. Если они, так или иначе, согласятся принять служебную роль и не только исполнять ее, но гордиться ею, мы пожалеем о них, даже будем хвалить. Если же они не пойдут на это, ну, тогда у нас есть все права презирать и даже преследовать их — разумеется, преследовать не так, как это делалось в старину, огнем и мечом, казнями и пытками, а соответственно нашим гумаяным понятиям — больше обидными и уничтожающими словами, нежели наказаниями. Виноватых бьют — этот принцип целиком перешел из традиций некультурного прошлого в современную этику. Но в былые времена этот принцип поддерживался только силою, и при случае выходило, что виноватые тоже бьют. Теперь же "виноватых бьют", а они молча целуют карающую руку. И это называется справедливостью, ибо при таком порядке казнит будто бы уже не человек, а идея. Идее же все разрешается.
Рудина Тургенев еще щадит, как Лаврецкого и Лизу, потому что они верят в добро и подчиняются. Но когда попадаются господа вроде Веретьева (в "Затишье"), о них уже не жалеют, а прямо объявляют: хоть они и даровитые и замечательные люди, но из них "никогда ничего не выходит". Кажется, нестрашные слова, а ими, как гробовой крышкой, навсегда прихлопывается человек. Это называется этическим суждением, и этим бескровным способом пытки и казни, этой вновь изобретенной гильотины моральной, наше время гордится, для современного человека что может быть ужаснее, чем услышать о себе суждение, что из него ничего не выйдет.
Ибо этическое суждение имеет своим источником не обыкновенные утилитарные соображения, а высшую, автономную идею потустороннего, метафизического происхождения. Кант даже дал формулу для автономной нравственностя: "Каждое из наших действий должно быть таково, чтобы принцип его мог стать принципом всеобщего законодательства."
На что уже, кажется, "чистый" принцип — без малейшей примеси утилитарных соображений. Но это только кажется. На самом деле, несмотря на свой формализм, этот догмат ничего, кроме охранения общественных нужд, не заключает в себе. Ибо как решить, какой из принципов должен, а какой не должен стать принципом общественного законодательства? По Канту, решение подсказывается внутренним голосом совести. Дальнейших объяснений он не счел необходимым представить — эту трудную задачу он оставил своим ученикам и комментаторам. Ученики бились, бились — и в конце концов все-таки решились позаимствовать у утилитаризма.
Любопытнейшая вещь: идеализм и утилитаризм явно презирают и не хотят знать друг друга, а втайне постоянно один другого поддерживают. Когда у утилитаризма иссякают "доводы", он обращается за громкими словами к идеализму. Когда идеализму нужно отыскивать "принцип всеобщего законодательства" он, нисколько не смущаясь, обращается за помощью к своему врагу. Приведу известный пример, сплошь и рядом предлагаемый кантианцами в объяснение догмата их учителя: