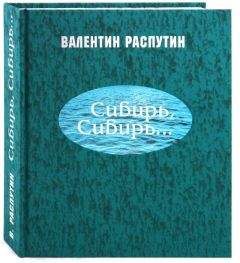И все-таки солнце! — до чего хорошо под солнцем! Все нежится, млеет и преображается на глазах, все в утро изменилось так, будто от вчерашнего тусклоглядья миновала неделя. Борис щелкает фотокамерой за все потерянные дни. Мы наперебой показываем ему картину за картиной, он радостно отмахивается и начинает опасно перекладывать свою могучую фигуру с боку на бок в поисках удобной изготовки. Я прошу его придумать что-нибудь, чтобы был снимок всех, как мы есть в лодке на воде, он, в свою очередь, просит Семена Климыча покликать медведя, который мог бы с берега «щелкнуть», а Семен Климыч, многажды ходивший среди медведей как свой среди своих, ведший счет им на байкальском берегу и чуть ли не проводивший референдум, при каком режиме — заповедном или демократическом — предпочитают они сосать зимой лапу, — Семен Климыч с удовольствием соглашается свистнуть «фотолюбителя», добавляя при этом рассказ, как он однажды дал косолапому подержать куртку, мешавшую вести записи, а тот возьми да приватизируй ее, скрывшись в чащобе.
Горы здесь не стоят торчмя, а лежат огромными, переходящими одна в другую сопками, густо поросшими лесом. Деревья — к каким не требуется сожаления: высокие, обветвленные, юбкастые — и кедр, и ель, и береза, и сосна. Сосна больше не вызывает удивления, ее много. Особенно красивы ели — прямоствольные, пышные, ровно, как по линии, сужающиеся к вершине, что называется, выставочные. Выплываешь из-за поворота, и впереди на крутом овале близкого горизонта выстроят они прямо-таки средневековый диковинный замок со шпилями, башенками и ярусами; и поверить нельзя, что это случайный рисунок. Солнце открыло первые осенние краски: на взгорьях нарядно зарыжели береза с осиной, светленькой чистой желтизной начинает обносить лиственницы. Выглядывают из берегов полянки, выглядывают не яминами в глухомани, как раньше, а лесной разумной и красивой охлопотой о продухах, зовущей для отдыха в высокой траве. И запахи, запахи… сколько выпьет земля солнца, столько даст истечения запахов, в мешанине которых уже не разобраться, а только знай пьяней от вязкого общего дурмана.
На реке не жарко, но едва сошли мы с нее для обеда на очередной каменистой косе, почувствовали, как нажимает солнце. Впервые с начала пути мы согрелись, и согрелись вмиг. Разделись и разулись и, пока готовилось варево, развешивали и раскладывали свое не просыхающее в рюкзаках, измочаленное, бывшее одеждой, комковатое тряпье. Пришлось, когда поспел обед, искать тень — слишком пекло солнце. И как во все эти дни мочило нас сверху и снизу, так теперь палило с неба и обжигало раскаленными камнями. Нам предстояла первая ночь в сухом белье и сухих спальниках, мы высушили оставшуюся еду, вплоть до картофелин и макарон, почистили песочком запущенные котлы и чашки, перевернули и отогрели лодку и окончательно подняли настроение.
И проплыли после обеда по уставшей кружить, выпрямившейся и затихшей Лене не более часа, как Семен Климыч, почти и не трогавший в этот час весел, лишь изредка чмокая то одним, то другим для порядка, вдруг по-звериному затаился, весь отдавшись слуху, встряхнулся, снова затаился и решительно объявил:
— Моторка. Сверху.
Я не поверил:
— Откуда ей взяться сверху? Как мы могли разминуться?
— Из протоки выскочила. Это Трапезников, больше некому.
Минуты через две я услышал далекий ноющий звук мотора. Затем показалась и лодка с высоко задранным острым носом и одинокой фигурой человека. Когда еще больше ничего нельзя было рассмотреть, Устинов уверенно подтвердил:
— Он. Трапезников.
Лодка не шла, не плыла, а летела — большая, серебристая, легкая, словно с неба спустившаяся птица, только-только коснувшаяся воды. Метров за восемь-десять мотор заглох, и лодка, все так же взбурливая воду, поравнялась с нами. Невысокий, ладный человек в штормовке поднялся в рост и, вглядываясь, ахнул:
— Вот так раз. А я вас через два дня жду.
— А где мы? — не утерпел я спросить.
— Чанчур рядом.
— Вот так раз. А мы собирались еще плыть да плыть.
После недолгих раздумий на берегу мы перегрузили свои пожитки в восьмиметровую, обшитую дюралью лодку, сверху водрузили свою, верно послужившую нам, но больше уже не понадобившуюся, свободно устроились сами, вытащив наконец свои ноги из воды, и еще через час были в Чанчуре, самом первом в ленских верховьях «жиле» в несколько «дымов».
Когда-то в этих местах кочевали тунгусы, одна семья и теперь еще живет в Чанчуре. Но с тех пор прошла целая вечность. И за вечностью местным жителям видится тот день, когда последний карбаз, резко и горько скрипя в уключинах боковыми веслами, скрылся за поворотом и закрыл собой эпоху карбазостроения и целую жизнь верхо-ленских деревень, едва теперь оставшихся в помине. От Чанчура до Бирюльки все пусто и стыло для глаза: места одних деревень заросли подчистую, на других скорбно и смертно торчат под открытым небом глинобитные русские печи с раззявленными челами, третьи еще выкашиваются бирюльским совхозом, но и у них недолог век. Вот и в Чанчуре после войны стояло за тридцать изб, а недавно доходило до того, что оставался один-единственный житель — старик Тихон Романович Горбунов, человек «характерный», как говорят о нем, обладавший необыкновенной силой и необыкновенным упрямством, оставивший о себе веселые легенды.
Воспоминания, легенды не идут далеко и почти всегда связаны с работным делом и с карбазами. Десятки и десятки лет заготовляли здесь для карбазов лес, строили их бригадами и спускали на воду. И по шиверам, перекатам и петлям, мимо заломов и прилук, по таким же точно, что достались нам, гнали новые посудины в Качуг, связанный трактом с Иркутском. В Качуге карбазы загружались и шли на север — к золотым приискам и дальше, в Якутию. Там они и оставались, а для новых грузов каждую навигацию требовались все новые и новые карбазы, надежные, послушные лоцману, держащие груз до сорока тонн и более. Так продолжалось до тех пор, пока от Тайшета на Транссибе не прошла железная дорога в Усть-Кут на Лене и не встали под портовые краны большегрузные самоходные баржи, а промысел, которым по большей части жил местный народ, оказался ненужным.
Пройдет еще двадцать-тридцать лет, уйдут из жизни последние карбазники, о нем и вспоминать забудут. Никто не скажет, почему Дунькина протока зовется Дунькиной: загнала в ней баба, вставшая за кормовое весло и потерявшая «борозду», карбаз на мель и погубила посудину. Немало их и под мужичьей лоцманской рукой не доходило до Качуга и Жигалова — как поведет себя Лена.
Но помнят, помнят еще и по именам называют мастеров-карбазников, умевших на корню учуять, какая сосна соткана «посолонь» и какая «противнина», какая будет колоться и какая нет. У сосны «противнина», извивающаяся против солнца, легче поддается клиньям при продольном расколе, а кедр, напротив, нужен с «посолонью». И сколько таких секретов навсегда уходит в забвение, кто теперь пользуется драньем, и только разве где-нибудь совсем уж в глухом зимовье встретишь драньевую крышу.
С одной жизнью простились, а другая только-только начинается. Это видно и по Чанчуру.
Если можно сказать, что остались еще на свете райские уголки, один из них — Чанчур. Не знаю, не помню и не уверен, что видывал что-нибудь для меня отрадней и приютней. Стоит деревня — а какая деревня в десять домов! — при слиянии речки Чанчур с Леной по левую руку на просторной и какой-то легкой, радостной открыти. Избы не составлены в улицу, а разбросаны вольно, кому как удобно. По берегу лениво щиплют траву сытые крутобокие коровы, в полудреме, едва пошевеливая хвостами, стоят лошади, вокруг которых носится жеребенок; как приткнулась лодка, подбежали посмотреть, кто приехал, две собаки и, найдя среди приехавших своего, даже и не гавкнули, как и положено лайкам, нелюбящим пустобрешия. На взгорье за деревушкой молодой сосняк на месте полей (сеяли когда-то и здесь), сторона к речке глухая, но противоположная, в низовья, открыта так далеко и широко, во все огромное, пологое, бесконечное небо, что есть куда лететь восторженной душе. А там, на горизонте заката, как на экране, четкая и частая гребенка елей, озаренная на заходе солнца огнистым, торжественным, как бы ритуальным сиянием. Но и всегда, при любом положении солнца и при любой погоде, так и тянет туда взгляд, так и ласкает сердце. Словно на особом виду эта некорыстная деревушка у неба и развело оно к ней просторную дорогу.
А другой дороги, дороги от людей, кроме зимника, сюда и нет. Нет и электричества. А это значит, что, сокрушив весь мир, недостает сюда «голубой экран», первое условие земного рая. Нет сомнения, что потеряется этот рай и здесь вместе с донесшимся запахом валюты: коопзверопромхоз строит в Чанчуре для интуристов дом и баню. Но одной баней интурист, привыкший к удобствам, не удовольствуется, потянут в Чанчур прочие блага, наторят дорогу, заведут электричество — и пиши пропало. С тоской и тревогой косится на интуристское подворье наш хозяин в Чанчуре Владимир Петрович Трапезников, пятнадцать лет, пока жил в городе и работал на заводе, искавший Чанчур. Искавший тот должный где-то быть благословенный укромный угол, где не гремит, не воняет, не толкается, не злобствует. И — нашедший именно то, что искал. Пятнадцать лет и здесь: сначала штатным охотником, а как устроился заповедник, перешел в него. Научился всему, что потребовала новая жизнь, и научился не хуже местных; лодки делает лучшие во всем районе. Завел библиотеку, рядом со старым, купленным по приезде домишком ставит большой новый, про который уже не скажешь, что это изба.