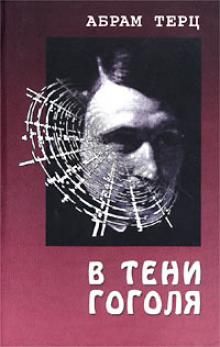Сложнее и проблематичнее обстоит дело с «Мертвыми Душами», которые не связаны непосредственно ни с древними легендами, ни с отдаленным прошлым, ни с миром сверхъестественного, ни с народной героикой, где нет ни стилизации, ни открытых ориентиров на какие-либо великие события или традиции, и разве что рассеянные там и сям пародические сравнения с прославленными именами античности способом от противного свидетельствуют о том, что Гоголь держал в уме эти великие тени — Гомера, Овидия, Вергилия, Данте и желал соответствовать своей поэмой — поэмам, эпосом современным — эпосу древних. Остальное вычитывается не из текста непосредственно, но из тенденций его стиля и построения, из внутренней логики образов Гоголя, из тона отдельных пассажей или общего течения речи, заставляющих скорее доискиваться и угадывать, какие эпические идеи и формы владели душою художника, нежели воочию видеть их претворенными в созидательном акте.
Всё же напор в эту сторону, общий итог накоплений эпоса, сделанных Гоголем, были так велики, что сравнение с Гомером последовало и, вызвав бурю протестов, застряло в уме исследователей, встающих время от времени перед нелегкой проблемой — древнего эпоса в новом, гоголевском исполнении. Смелость, честь и риск объявить об этом в открытую, в полный голос, принадлежали Константину Аксакову, восторженному поклоннику Гоголя, по прочтении «Мертвых Душ» поспешившему издать брошюру на указанный предмет, лишенную сколько-нибудь конкретных примеров и аргументов и написанную будто вслепую, в наитии, на интуитивном подслушивании даже не смысла, а музыки гоголевского слова.
«…Древний эпос восстает перед нами».
Речь шла не о содержании и даже не о форме поэмы Гоголя, совершенно самобытных и связанных, понятно, с другой средой и эпохой, но о наличии у автора «Мертвых Душ» присущего лишь древним поэтам эпического созерцания, обнимающего собою целый мир в неразрывной связи его явлений от великих до ничтожных.
«…Шумят волны, несется корабль, враждуют и действуют люди; ни одно явление не выпадает и всякое занимает свое место, на всё устремлен художнический, ровный и спокойный, бесстрастный взор, переносящий в область искусства всякий предмет с его правами и, чудным творчеством, переносящий его туда, каждый с полною тайною его жизни: будь это человек великий, или море, или шум дождя, бьющего по листьям».
Всё последующее литературное развитие рисуется в виде нисхождения эпоса до романа — как утрата спокойного и ровного мирообъемлющего взгляда, подмененного интересом к событию, интриге, происшествию, к анекдоту, наконец, поглотившему всё внимание у писателей нового времени.
«И вдруг среди этого времени возникает древний эпос со своею глубиною и простым величием — является поэма Гоголя. Тот же глубокопроникающий и всевидящий эпический взор, то же всеобъемлющее эпическое созерцание. Как понятно, что мы, избалованные в нашем эстетическом чувстве в продолжении веков, мы с недоумением, не понимая, смотрим сначала на это явление; мы ищем: в чем оке дело, перебираем листы, желая видеть анекдот, спешим добраться до нити завязки ромaна, увидеть уже знакомого незнакомца, таинственную, часто понятную, загадку, думаем, нет ли здесь, в этом большом сочинении, какой-нибудь интриги помудренее; но на это всё молчит его поэма; она представляет вам целую сферу жизни, целый мир, где опять, как у Гомера, свободно шумят и блещут воды, восходит солнце, красуется вся природа, и живет человек, — мир, являющий нам глубокое целое, глубокое, внутри лежащее содержание общей жизни, связывающий единым духом все свои явления…Эпическое созерцание Гоголя — древнее, истинное, то же, какое и у Гомера; и только у одного Гоголя видим мы это содержание, только он обладает им, только с Гоголем, у него, из-под его творческой руки восстает наконец древний, истинный эпос, надолго оставлявший мир…» (Константин Аксаков «Несколько слов о поэме Гоголя: „Похождения Чичикова“ или „Мертвые Души“», 1842 г.).
Позицию Аксакова было нетрудно оспорить и опровергнуть — настолько не вязалось содержание поэмы Гоголя с Гомером. Как ни оправдывался автор, вынося содержание, предмет поэмы, за скобки и сосредоточив упор на эпическом созерцании Гоголя, на небывалом, со времен Гомера, единстве духа, проявившемся в «Мертвых Душах», и проистекающих отсюда полноте и спокойствии художнического взгляда на мир, спор невольно скатывался к содержательному различию, вопиющему при одном сопоставлении имен — Гомер и Гоголь! Последний имел дело с явно недоброкачественным для эпоса материалом, с совершенно безгеройной, если не бесчеловечной, средой, применительно к которой категории «общей жизни», «мирообъемлющего единства» и т. д., какими пользовался Аксаков, казались просто выдумками наивного славянофила. Белинский, например, единственный признак «общей жизни» у Гоголя мог усмотреть лишь в «совершенном отсутствии общечеловеческого в изображаемой им жизни».
«Помилуйте (резонно возмущался Белинский): какая общая жизнь в Чичиковых, Селифанах, Маниловых, Плюшкиных, Собакевичах и во всем честном компанстве, занимающем своею пошлостью внимание читателя в „Мертвых Душах“? Где тут Гомер? Какой тут Гомер? Тут просто Гоголь — и больше ничего» («Отечественные Записки», 1842, № 11).
Сам Гоголь был раздосадован непрошенной брошюрой Аксакова: называя ее замечательной в своем основании, он считал этот выпад незрелым и преждевременным, способным возбудить лишь насмешки над автором брошюры, так же как над автором «Мертвых Душ», которого молодой и неопытный почитатель без долгих слов зачислял в Гомеры. Создается впечатление, что Гоголя настораживала не сама аксаковская концепция, лично ему близкая и приятная, но отрицательный эффект, ею вызванный. Получалось как бы, что критик запальчиво и неумело выболтал раньше срока некую тайну его сочинения. Не Аксакову, но поэме еще надлежало созреть до Гомера. Общий же курс и подход были выбраны правильно. Гоголь в «Мертвых Душах» пробовал на новой основе возродить древний эпос. Чувствуя таковую наклонность, Белинский в той же критике на Аксакова пытался образумить самого уже Гоголя и оспаривал возможность и законность постановки подобной задачи:
«Если же сам поэт почитает свое произведение „поэмою“, содержание и игрой которого есть субстанция русского народа, — то мы, не обинуясь, скажем, что поэт сделал великую ошибку: ибо, хотя эта „субстанция“ глубока, и сильна, и громадна (что уже ярко проблескивает и в комическом определяется и которое Гоголь так гениально схватывает и воспроизводит в „Мертвых Душах“), однако субстанция народа может быть предметом поэмы только в своем разумном определении, когда она есть нечто положительное и действительное, а не гадательное и предположительное, когда она есть уже прошедшее и настоящее, а не будущее только…»
Возможно, Белинский и прав в определении субстанций и кондиций эпоса. Возможно, эпос требовал даже большего, чем действительное и прошедшее, и, чтобы сделаться эпосом, должен был предварительно прочно забыть всё великое в жизни, а потом уже восстановить это в памяти наново в мнимой картине бывших событий, набравшейся истины и красоты Бог весть из каких глубин сонного опыта народа. Но Гоголь и не следовал за Гомером в эпическом миросозерцании. Гоголь шел к непосильной встрече с Гомером противоположным путем — от Терсита к Ахиллу, из настоящего в будущее, подающее руку прошедшему, от мертвецов к воскрешенному человеку и Богу, от пародии к мифу. Сходство с древним эпосом возникало в итоге этого обратного, встречного движения. Поэтому оно, это сходство, было во многом пародийным, как пародийна поэма — в прозе (что не меняло в принципе серьезности цели в сближении с забытой традицией). Опыт «Перелицованной Энеиды» своего знаменитого земляка Котляревского Гоголь безусловно учел, работая над «Мертвыми Душами». Последние могут быть также названы «Энеидой наизнанку» или «Одиссеей навыворот», хотя пародия здесь больше служит формой прикровенного влечения к высокому подлиннику и говорит о стремлении встретиться с ним на иной, противоположной основе.
Гомеровский кругозор (по Аксакову) применительно к целокупной картине мира в «Мертвых Душах» нужно перевернуть: не от великого до ничтожного, но от ничтожного до великого в силах вместить Гоголь. Гоголь начинает с ничтожного и на ничтожном сосредоточивает всё внимание, прорываясь к великому, стараясь поймать его эмбрион в ничтожной персти земной. Единство мира достигается у Гоголя на ином уровне, нежели у Гомера. Это не уровень Рока, богов и героев, но уровень первоматерии, представленной в молекулярном разъятии, из которой, по воле Промысла, лепятся герои и боги. Гоголь, если угодно, это преисподняя эпоса. В Терситах закладывается Ахилл. Великим всенародным подвигом поэма Гоголя могла лишь увенчаться и обрести в нем счастливый исход. Будучи вступлением в эпос, «Мертвые Души», в сущности, разрешились не в эпос, но в лирику, в молитву, в пророчество, в утопические проекты и практические усилия автора самому покрыть недостачу в положительном опыте и стать эпическим богатырем, положив начало возрождению богатырей на Руси. Гомер подвел итоги греческой мифологии, Гоголь творил миф. Гоголевская птица-тройка, несмотря на лирическую нитку, из которой она соткана, стала едва ли не прасимволом русского сознания. К ней обращались, ее беспрестанно перефразировали и перелицовывали русские авторы Достоевский, Блок, Бунин… К ней еще вернутся. Вокруг нее суждено вращаться русской словесности, как вокруг какого-нибудь Троянского коня. В ней судьбоносная стихия России достигла обратимой выпуклости мифологемы.