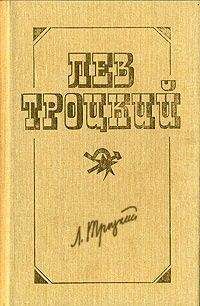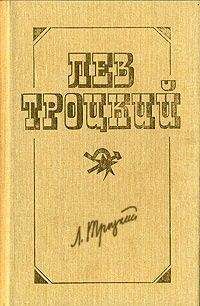Понятна наша мысль г. Викторову? Мы ему ее поясним. Пока в Абиссинии существует институт виселицы (durissima lex!), карающий за дурные отзывы об абиссинском государственном строе, до тех пор тем абиссинским гражданам, которые берут на себя обязанности палачей, ничего не остается, как «подчиниться существующему в их стране жесточайшему закону», не отвечая за его жестокость. Это совершенно неоспоримая истина. Возможен, однако, такой случай, что осужденный, прежде чем протянуть шею, воскликнет: «Гражданин палач! Еще вчера вы заявляли себя сторонником принципов демократии; не зазорно ли вам сегодня душить меня за служение этим самым принципам?». Но тут неожиданно выступает на сцену третье лицо – либеральный абиссинский публицист – и заявляет: «Твои выводы, почтенный согражданин, совершенно неправильны. Пойми! Пока сей демократ фигурирует в качестве агента при двух абиссинских столбах с перекладиной, он должен лишь – „стараться о том, чтобы в пределах закона добросовестно относиться к обязанностям“: намыливать веревку, затягивать петлю и вышибать истинно-абиссинским пинком скамейку из-под твоих, о, гражданин, подметок!».
Я не знаю в точности, что в таких случаях отвечают в Абиссинии мудрым публицистам, но не сомневаюсь, что что-нибудь страшно выразительное!
Но г. Викторов не останавливается на этом. Он идет еще дальше. Вернее сказать, он скатывается еще ниже.
«Для меня, например, совершенно понятно, – пишет он, – что если живущий в Софии корреспондент иностранной газеты приносит болгарскому демократу, исполняющему, тоже в Софии, обязанности цензора, статью, посвященную описанию жестокостей в Димотике или бессмысленных казней в Мустафа-Паше, то софийский цензор, будь он демократом, социалистом или анархистом, не может пропустить подобной статьи. У него, цензора, нет уверенности в том, что дело было именно так, как „кто-то“ рассказал об этом софийскому корреспонденту… Не пропуская подобной статьи, цензура могла бы оказать, до некоторой степени, услугу самому автору, потому что, напр., в Димотике не было совершено никаких зверств, – это теперь (когда?) уже установлено (кем?) совершенно положительно (как?)». (Вопросы в скобках мои. Л. Т.)
Вы видите, как обстоит дело. Г-н Викторов посулил нам серьезно поспорить с генеральным штабом насчет организации военной цензуры. Но это – в будущем, когда штаб не будет так занят «текущими делами»… А в настоящем, пока что, г. Викторов берет на себя полностью защиту штабной цензуры, – именно того, что было в этой цензуре возмутительного, варварского и – скажем настоящее слово – глупого. Г-ну Викторову, видите ли, «совершенно понятно», если цензор не пропускал статьи о болгарских жестокостях, не зная источника сведений и сомневаясь в их достоверности. Выходит так, что основным критерием болгарской цензуры была забота о правде, о фактической точности. Выходит так, что если бы я представил в софийскую цензуру корреспонденции о разнузданном произволе и взяточничестве в софийском комендантстве, то эта корреспонденция прошла бы беспрепятственно, ибо насчет физиономии комендантства не может быть сомнений не только у г. Викторова, от которого не укрываются даже «мельчайшие подробности», но и ни у одного из софийских цензоров. Но ведь это же чистейший вздор! Когда корреспондент хотел телеграфировать что-либо, что, по мнению цензуры, служило к «вящей славе», никто и никогда не проверял его источников. Немирович-Данченко совершенно беспрепятственно препровождал в Москву голубых лошадей героизма и великодушия – целыми табунами. Наоборот, если сообщение клонилось, по мнению цензуры, к умалению «славы», то оно неизменно черкалось, совершенно независимо от того, был ли источник его несомненным или сомнительным. Разве кто-либо в Софии сомневался в факте кровавой расправы над помаками? Что ж, разрешили нам разве об этом сообщать? Г-н Викторов знает все это не хуже моего. И если он изображает дело так, будто цензор черкал потому, что сомневался в верности сведения, то тут уж г. Викторов попросту вдается в область совершенно непозволительной официозной апологетики, которая нисколько не лучше творчества нашего осведомительного бюро. Плохая профессия у софийского корреспондента «Речи»!
Но уровень его политического мышления еще ниже его профессии. Ему, корреспонденту либеральной газеты, «совершенно понятно», если военный цензор пускается в область проверки источников сведений иностранного корреспондента. Действительно, софийские цензора не раз выдвигали этот аргумент, когда дело касалось неприятных, с точки зрения «вящей славы», фактов.
– Не можем пропустить, ибо не знаем ваших источников и сомневаемся в факте.
– Простите, но вам до этого дела нет.
– Как так? Раз мы пропускаем, значит мы подтверждаем.
– Разве софийская цензура служит порукой перед русскими читателями за русских корреспондентов? Ваша военная цензура, поелику существует, должна бы блюсти за тем, чтобы наши сообщения не вредили военным операциям, – и только. А сообщаем ли мы нашим читателям проверенные или непроверенные сведения, правду или ложь, до этого вам никакого дела нет. За наши сообщения мы отвечаем нашими именами, наши газеты – своей репутацией.
Иногда удавалось пронять этими доводами даже цензоров. А нынче вот г. Викторов, свободный журналист свободной прессы, выступает перед публикой с этим самым патриархально-полицейским воззрением на военную цензуру, как на мать-командиршу, которая контролирует источники, проверяет сведения, наблюдает за добронравием журналистов и оказывает им даже «услуги»(!), оберегая от ложных шагов.
На каких образцах вырабатывал г. Викторов свой политический образ мыслей, не знаю. Да для дела это и безразлично. Что есть на Руси много обывателей, в том числе и либеральных, в том числе и пописывающих, которые сохранили в сердцах своих многие советы вотчинной государственности, в этом я не сомневался. Но если «Речь», официоз либеральной партии, эту затхлую полицейскую дребедень преподносит своим читателям в целях защиты савовско-фичевско-радевской цензуры от обвинений злокозненных русских журналистов, это уже подлинный политический скандал!
Что же, однако, пишет г. Викторов по существу вопроса, т.-е. о балканских зверствах? Мало пишет, но нехорошо пишет! Отрицая, признает и, признавая, отрицает. Старается огульно скомпрометировать все данные, на которые я опирался, и в то же время оставляет за собой путь отступления, обещая какие-то «настоящие» данные о балканских зверствах. Невнятно пишет г. Викторов, нехорошо пишет, и эту плохую и нарочитую невнятность «Речь» преподносит как запоздалую отписку.
В двух случаях г. Викторов отваживается на прямые опровержения: 1) в Мустафа-Паше не было «казней, превращенных в дьявольскую игру праздных офицеров», ибо там было «всего две казни», 2) «в Димотике не было совершенно никаких зверств, – это теперь уже установлено совершенно положительно».
«Всего две казни» в Мустафа-Паше. Где тут ударение: на двух казнях или на Мустафе? Хочет ли г. Викторов сказать, что вовсе не было многочисленных расстрелов жирных турок, под видом «казни» башибузуков и шпионов, или же он хочет только сказать, что я неправильно приурочил эту «дьявольскую игру» к Мустафе, где было будто бы «всего две казни»? Невнятно пишет г. Викторов. А пишет он невнятно, потому что знает больше, чем хочет сказать.
Насчет Димотики «теперь уже установлено совершенно положительно», что там не было зверств. Установлено? Значит приходилось устанавливать? Чем же это было вызвано: чьими-нибудь неосторожными корреспонденциями или осторожным молчанием г. Викторова? Кем установлено? Когда установлено? Почему «кто-то», сообщивший мне о зверствах в Димотике, вызывает в г. Викторове лишь чувства солидарности с цензурой, а «кто-то» (штаб?), опровергший эти сведения, вызывает с его стороны полное доверие? Какое неравномерное распределение сурового критицизма и стремительной доверчивости!
О жестокостях в Димотике передавали мне раненые болгары. Очень веское подтверждение и этим рассказам дал на основании личных наблюдений мне и д-ру Р. Годель, корреспонденту «Frankfurter Zeitung», г. Бомон – корреспондент «Daily Telegraph», большой болгарофил, отстаивавший необходимость передачи Константинополя болгарам. Может быть, «кто-то», инспирирующий г. Викторова, попросту зачислил операции в Димотике по ведомству «казней» или «необходимых мер военной предосторожности» и таким путем установил, что в Димотике все обстояло благополучно?
Но разве центр тяжести обвинений – в казнях Мустафы и зверствах Димотики? Почему только эти два примера выделяет г. Викторов и столь невнятно «опровергает» их?
Потому, что своим невнятным опровержением он надеется косвенно скомпрометировать остальные разоблачения, к которым он не смеет прикасаться.
О, г. Викторов «не хочет сказать, что нигде никаких зверств не было». Правда, он сам, такой охотник до «мельчайших подробностей», ничего не видал: не случилось. Гг. Пиленко и полковник фон-Дрейер (нововременцы), капитан Мамонтов из «Утра России» и Немирович-Данченко из «Русского Слова», Кузнецов из «Голоса Москвы» – тоже ничего не видали. Зверства случались, что и говорить, но те шесть русских корреспондентов, которые в отличие от многих других были допущены главным штабом в глубь театра военных действий, своими глазами ничего не видали: за всем не угоняешься. А те, которые кое-что видали, а хотели видеть больше, не были допущены штабом, либо даже высланы назад, в Софию. Таким образом, шесть названных г. Викторовым ничего худого не видевших очевидцев – это не просто корреспонденты, а праведники, отмеченные перстом штаба. Приходится допустить, что чувство благодарности расслабляющим образом подействовало на их органы наблюдения.