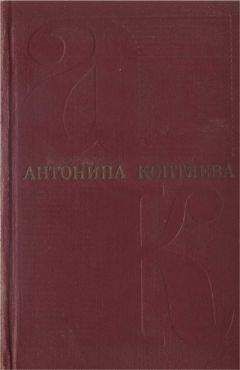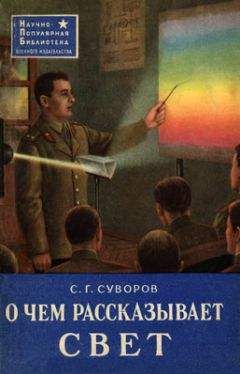Часть третья
1
Варе не удалось в тот вечер объясниться с мужем: пришел домой до того усталый, что только-только дотянул до постели, упал и сразу уснул. И она невольно порадовалась этому: объяснение пугало ее.
Все последнее время она ходила как в воду опущенная, только на работе была по-прежнему собранной и деятельной. Никто, даже Елена Денисовна, не знал о том, что творилось у нее в душе. Больше всех чувствовал внутреннюю ее напряженность Мишутка, но он по малости лет не понимал, отчего она переменилась. Вдруг, ни с того ни с сего, закричит на него так, что мальчишка вздрогнет всем крепким тельцем и, недоумевая, посмотрит снизу обиженно округленными глазами. То оторвет его от игры и начнет целовать, а то обнимет и заплачет тихонько, тихонько.
— Почему ты пищишь, будто маленькая собачка? — спросил однажды Мишутка. — У тебя, наверно, животик болит. Вот придет папа и даст тебе лекарства.
Горе и смех с таким малышом! Где ему понять, до чего трудно жить на свете взрослому человеку!
Сидя возле Наташи, Варя с тоской наблюдала за тем, как быстро уходила она в какое-то потустороннее «далеко»: смотрела спокойно-безучастными глазами, принимала еду (сначала брала сама, а потом ее начали кормить с ложки), произносила нечленораздельные звуки, иногда подобие бессмысленной улыбки пробегало по неузнаваемо изменившемуся лицу.
Варя умывала ее, помогала санитарке сменить белье, поправляла постель. Наташа покорно позволяла им делать что угодно, хотя уже не узнавала людей, которые ухаживали за нею.
«Неужели Ивана Ивановича не мучает совесть, когда он приходит сюда?» — с ожесточением думала Варя, повязывая чистой косынкой стриженую голову своей сталинградской подружки.
Ей вспомнился день в блиндаже, когда они остриглись все сразу: и Варя, и Наташа, и Лариса. Наташа стала похожа на хорошенького мальчика. Как весело она тряхнула русым чубчиком, надела пилотку, посмотрела на себя в зеркало и сказала:
— Прелесть! До чего хорошо!
А уж какая там прелесть! Остригли такие чудные косы, потому что грязь да пыль кругом и помыться негде.
Но Наташа все равно была счастлива, а сейчас она или ничего не чувствует, или чувствует, да не понимает, не может выразить.
«Мы с Ларисой в тот день чуть не повздорили, — припомнила еще Варя. — Я нагрубила ей из-за Ивана Ивановича. Она удивилась, но не рассердилась. Ох, если бы мы могли знать, как все сложится!»
Варя снова посмотрела в бездумные глаза Наташи. Лежит, и поводит ими, и молчит, тупо, безнадежно. Все забыла. Ничего не просит. Никого не ждет и не зовет. Ужас! Ужас!
Варя встала и быстро пошла из палаты, но у выхода замедлила: странно знакомое померещилось ей в профиле женщины, полусидевшей на кровати с высоко поднятым изголовьем.
Полозова! Та самая больная, которая «досталась» Варе на выпускном экзамене по терапии. Фрезеровщица с завода. И тогда поражал ее болезненный вид, а сейчас она едва жива. Руки такие же тонкие, живот стал еще больше, щеки исчерчены прожилками, губы синие…
— Фаня у нас героиня! — бодро сказала незаметно вошедшая в палату Софья Шефер и, здороваясь, сжав локоть Вари левой ладонью, привычно наложила другую руку на пульс больной. — Все шутит и смеется наша партизанка Фаня!
— Я знаю ее. Это моя хорошая знакомая по экзамену.
— Я помню, доктор, — слабым, беззвучным голосом откликнулась больная, но улыбка в самом деле прошла по ее изможденному лицу. — Вы мне подали мысль о сердечной операции. И вот я, всякими правдами и неправдами, пробилась к Аржанову. Я сказала ему, что без операции не уйду отсюда. Пусть умру на столе. Но если он откажется оперировать, выброшусь из окна.
«Хороши шутки! — мысленно воскликнула Варя, следя за выражением лица Софьи, все еще державшей руку на пульсе больной. — Да и так видно, что жить этой бедняжке Полозовой осталось совсем, совсем немного. Если бы она тогда же пришла, в июне, а сейчас…»
— Иван Иванович хотел меня оперировать. Он согласился, но у меня… я заболела плевритом. Ужасно было тяжело, — шелестела синими запекшимися губами Полозова. — Но я справилась и с плевритом. И вот опять здесь. Пусть оперирует. Больше я не могу. Пусть на столе… Умирать, так с музыкой.
— Панцирное сердце… — сказала Софья. — Это наша Фанечка получила в белорусских лесах. В разведку ходила, целыми часами в снегу лежала, по болотам ползала. Приобрела ревматизм, а потом осложнение на сердце.
— Верно! — И снова белое сияние зубов осветило на миг темное лицо Полозовой. — Какая я была! И ничего не осталось, сносилась на сто процентов! — Сипловатая одышка заглушила и без того тихий голос больной. — Теперь так: или пан, или пропал, но требую капитального ремонта.
«Если „пропал“, так опять профессор Аржанов в ответе», — мелькнуло у Вари.
— Завтра пойдешь в операционную, Фанечка, — сообщила Софья.
— Завтра? — Взгляд Вари встретился с дружелюбным, но невеселым взглядом Софьи.
— Иван Иванович уже распорядился готовить к операции.
— А комиссия?
— Члены комиссии все будут присутствовать.
— Значит, я добилась своего! — Полозова опять улыбнулась, но улыбка ее показалась Варе неестественной.
«Бодрится женщина, не понимая того, что буквально под нож лезет. Что же думает Иван Иванович?»
Варя тоже проверила пульс больной и, взяв трубку у невропатолога, сама послушала ее «панцирное сердце». Стало страшно. Насколько ухудшилось состояние больной с тех пор, когда Варя сдавала экзамены!
— Неужели вы и вправду будете оперировать ее, да еще при членах комиссии? — с тяжелым недоумением спросила она Софью, выйдя вместе с нею из палаты.
— Завтра утром на первую операцию назначили ее.
— Что заставляет вас идти на такой риск? Она может умереть в самом начале операции!
— Это-то и заставляет нас рисковать. Тут промедление — смерть.
2
Когда Варя пришла домой с Мишуткой, Иван Иванович уже крепко сидел за своим письменным столом. Взглянув на сосредоточенное лицо мужа, на то, как он серьезно ответил на приветственный возглас сынишки, а потом, взяв его на руки, молча приложился лицом к черноволосой его головке, Варя поняла: весь там, возле Полозовой. И книги на столе, и открытый журнал о том же: сердце, сердце! И так захотелось Варе сказать: «Будь оно проклято, это сердце! Из-за него мы все потеряли покой!»
Но, осознав свое желание, Варя устыдилась: ведь она врач. Если бы она была только женой хирурга, все равно не имела бы права так рассуждать. Долг медицинского работника превыше всего. А покой? Те, кто творит и дерзает, к нему не стремятся.
«Отчего же какой-то бес не то противоречия, не то трусости оседлал меня?»
— Папа, поиграй со мной, — жалобно попросил Мишутка.
— Некогда мне, сынок! — И Иван Иванович снова так уткнулся в книгу, что казалось, ударь сейчас в комнате гром небесный — он не произвел бы на хирурга никакого впечатления.
— Иди сюда! — позвала Варя сына и пошла с ним на кухню, где Елена Денисовна стряпала вареники с творогом.
— Опоздала сегодня с обедом! — сказала она, ласково взглянув на своих «деток». — Понадеялась: Наташка моя подойдет, поможет, а у нее собрание в школе.
— Сейчас помогу, — тихо сказала Варя.
— Я тоже буду помогать, — заявил Мишутка, забираясь на табурет.
Глядя, как он начал расшлепывать рукой комочки теста на столе и, усиленно пыхтя, лепить из них что-то, Варя прислушалась к музыке, приглушенно звучавшей из репродуктора.
Женский голос пел мелодичную и нежную песню.
«Золотая рыбка, поиграй со мной», — звенела наивная просьба ребенка, увидевшего в ручье недосягаемое для него чудо.
Простая песенка, но такой глубокий смысл вложила певица в эти слова, такая задушевная тоска о несбыточном звучала в ее голосе, что у Вари перехватило дыхание, и она чуть не выронила слепленный ею вареник. Взглянув на Елену Денисовну, она заметила, что и ту задело за живое: скорбно поджаты губы, а брови подняты задумчиво — вся слух и внимание. Даже Мишутка притих да вдруг как запоет смешным полубасом:
— Папа — золотая рыбка, моя золотая рыбка!
— Фу-ты! — рассердилась Елена Денисовна. — Помолчи, и так плохо слышно.
— Я сделаю погромче, — сказала Варя, подкручивая регулятор на тарелке репродуктора.
— Помешаем Ивану Ивановичу, — нерешительно возразила Елена Денисовна.
— Нет, пожалуйста, я тоже слушаю, — сказал он, выходя в коридор.
— Кто это так хорошо пел? — послышался сонный голосок Дуси, и ее взлохмаченная голова показалась из-за притворенной двери. — Я пришла с работы, вздремнула, а тут сразу проснулась. И так грустно да славно стало!
— Это я пел! — озоруя, но и убежденно крикнул Мишутка, и всем стало смешно.