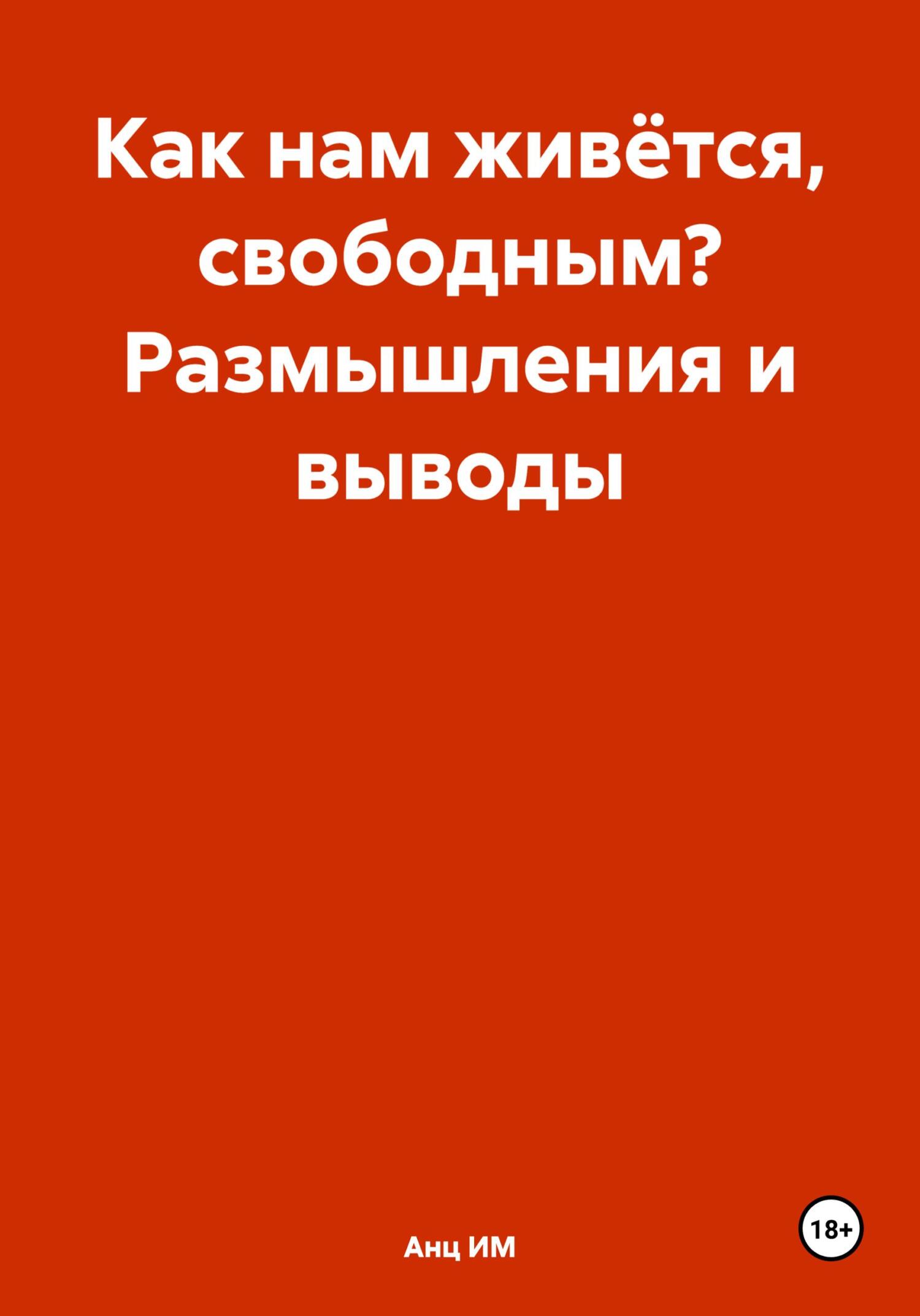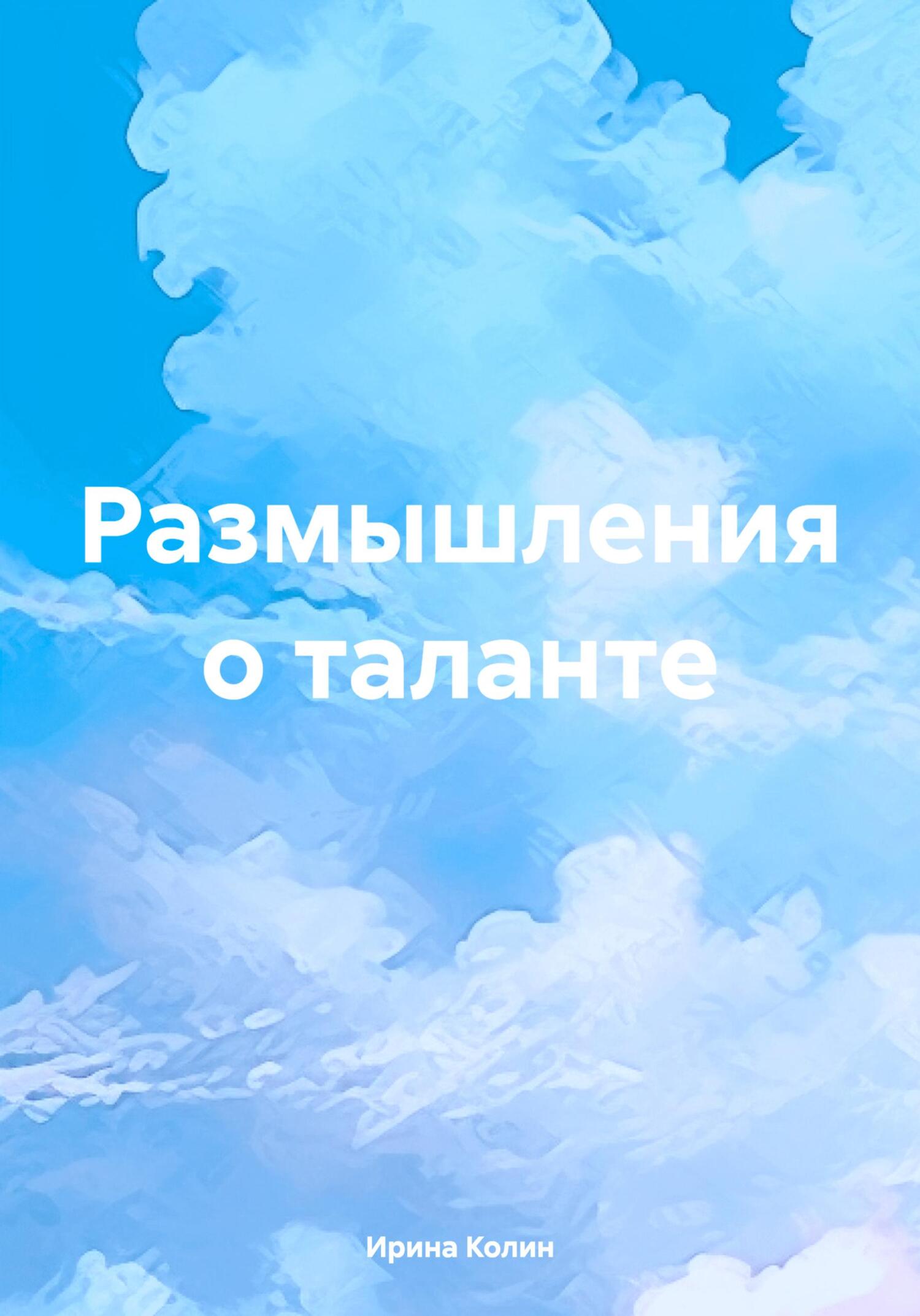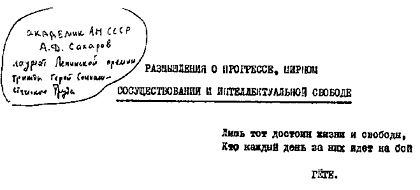удачно устроившись по части вещевого достатка и общественного положения, Татьяна, не любя супруга, до крайности и глубоко несчастна?
Мы не всё знаем, как проходили её девические годы, когда ей нужно было укрощать свою бунтующую молодую плоть. Здесь Пушкин старательно отодвигает от неё всяческие подозрения и лишь то утверждает совершенно, кажется, верно, что для неё были все жребии равны: — по причине остававшегося в ней чувства к Онегину.
Жребии, однако, понимались тут далеко не одинаковыми: для Татьяны, провинциалки, отвергавшей предложения всех тогдашних женихов округи, имели значение только те из них, которые поступали от молодых местных родовитых дворян, то есть преимущественно от помещичьих сынков, а не от кого-нибудь из «простых», скажем, управляющих именьями, бравшихся в наём учителей-иностранцев, представителей личной или чужой прислуги и уж тем более — из крепостных, что исключалось вообще, в принципе.
Уходя в замкнутый сословный интерес, героиня романа так бы, пожалуй, и продолжала невеститься «для своих» околоточных, не случись ей быть в Москве, где она приглянулась важному полнотелому генералу.
Что в таком случае обозначало утверждение: «отдана»?
Трудно представить, что будучи свободной по социальной принадлежности, то есть обладая господскими правами, она вручена чуждому и нелюбимому кем-то силком, будто обычная крепостная крестьянка. Нет. Речь могла идти только о её женском безволии, подчинении обстоятельствам.
Если точнее — она решила не испытывать судьбу и, поддавшись на слёзные уговоры своей матери, целиком следовала нормам сословного, корпоративного естественного права.
Того ущербного маяка дворянской чести, в ориентации на который она если и отличалась от беспутствовавшего Онегина, то только тем, что у неё, как женщины, возможности выбора в своём круге спутника жизни свободно и по любви оставались предельно малы и не шли ни в какое сравнение с тем, как они складывались для мужчин.
Насколько собственный выбор был у Тани замкнут в её сословных представлениях и расчётах, можно судить по тому широко освещённому в художественной словесности состоянию изнуряющего одиночества, в каком оказывалась едва ли не каждая молодая незамужняя дворянка в российской провинции, кажется, не видевшая смысла в ином решении своей судьбы, кроме заполучения супруга непременно из «своих», из среды, скреплённой сословной круговой порукой.
Само собой, такие обстоятельства служили хорошей опорой для утверждения и даже развития «не того» интима в его дворянском обозначении.
К нашим дням и к нашим современникам легко применима, в частности, та «неудобная» для слуха, но реалистичная и беспристрастная сентенция, какую выразил Лев Толстой в его «Воскресении».
Распространяясь о Екатерине Масловой, необоснованно осуждённой «штатной» проститутке, романист пишет:
…весь мир представлялся ей собранием обуреваемых похотью людей, со всех сторон стороживших её и… старающихся овладеть ею.
(Л ев Т о л с т о й. «Воскресение», часть первая, XLIV. — Фрагмент текста романа приводится с сокращениями).
Никак нельзя было назвать беспочвенным обращение автора к таким «трепетным» восприятиям образа героини. За десять лет занятий своим «ремеслом» она пропустила через себя сотни клиентов-мужчин из самых разных слоёв общества своей страны, а то, возможно, и — других стран.
Пусть они часто не вызывали у неё никаких иных чувств, кроме гадливости и омерзения, но она вошла в свою роль до такой степени, что та уже как бы и не огорчала её и даже нравилась ей. Чем? Оказывается — возможностью не только получать приличный материальный доходец и не быть стеснённой статусом супруги и, соответственно тому, — обзаведением и воспитанием собственных детей или, хуже того, — неопределённым положением женщины незамужней и не востребованной мужчинами, — но и — безо всяких сложностей и без помех удовлетворяться в прелюбодеяниях, этим утешаясь и не досадуя на свою долю.
Великий писатель говорил о тысячах и тысячах таких женщин своего времени и своего отечества; почти сплошь они, хотя и с оговорками на разного рода неблагоприятные житейские обстоятельства и трудности, но отнюдь не насильно, а совершенно сознательно, по доброй воле избирали для себя дело, связанное с отдачей собственного тела в платное пользование кому угодно; причём здесь имелась в виду та исключительно публика, которая обитала в борделях или, как тогда их называли, домах терпимости, учреждениях, не запрещённых государственной властью и состоявших у этой власти на строгом учёте в виде ячеек законной трудовой профессиональной занятости.
Притронувшись к этой малоприятной теме, автор уже, разумеется, не мог не перейти к замечаниям о случаях допускавшегося и едва ли не массового разврата в среде тогдашнего дворянства, мещанства и простого люда — как со стороны мужей, так и жён, родственников, знакомых.
Например, о людях, добровольно следовавших по этапу за арестантами и помогавших им сочувствием или материально, в том же романе сказано, что они почти все были влюблены в кого-то из находившихся рядом и что никого из них даже не удивляло исповедание ими так называемой свободной любви — половых отношений вне хоть каких-либо приличий, норм и ограничений.
Сам Нехлюдов, главный герой произведения, следуя за этапом, только-только прервал свои смутные предбрачные отношения с Мисси — княжной Марией Корчагиной, жениться на которой не имел особого желания ввиду наступавшего своего постарения и непривычности видеть себя в роли «образцового» мужа, а, кроме того, — за ним продолжало «тащиться» и ещё не было прервано общение по «программе» ненормативного интима с женой предводителя дворянства того уезда, где находились основные его, нехлюдовские, имения, тоже, кстати, Марией, то есть, — тайно прелюбодействовал.
Имея в виду эти своеобразные обстоятельства и приходя к намерению жениться на осуждённой, он, в состоянии взволнованности и стыда — «чистки души», как о том говорится в романе, — откровенничает:
Скажу правду Мисси, что я распутник и… только напрасно тревожил её…
(Л е в Т о л с т о й. «Воскресение», часть первая, XXVIII. — Предложение из текста приводится с сокращениями).
Его «воскресение», о котором сообщается по ходу повествования и в особенности на последних страницах романа, вряд ли было «всамделишным», а если оно что-то и могло значить, то не более как писательскую иллюзию, «выведенную» из материалов о несправедливостях в устройстве общественной жизни в России и искусственно перенесённую в сознание литературного персонажа.
Куда ему, доброхоту Масловой, было деваться по его возвращении из многомесячного следования за нею с этапом, как не в ту же историческую среду, где суть сексуальных отправлений оставалась явно небеспорочной и только продолжалась её неостановимая порча, и ему, потомственному помещику, сполна впитавшему в себя нормативы прав и обязанностей, установленных на принципах сословной чести, просто не подобало находиться в стороне от ущербного обычая и тем более от