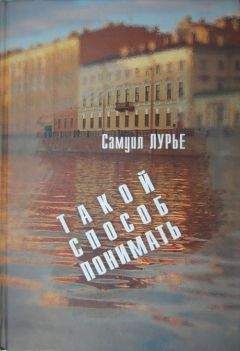И вообще — у них груди, не говоря уже о руках.
Ну а вода — это вода.
«В воде тонут люди. Я могу утонуть. Вода заливает город. В воду бросаются, чтобы умереть». И поэтому наводнения снятся тоже.
Цена победыВернее, снились. Потому что к 1935 году все как рукой сняло.
Методика излечения описана двояко. Во-первых, научными терминами, как бы сквозь зубы: что-то такое — силой ума удалось разорвать неверные условные связи условных нервных раздражителей. Во-вторых, слогом высоким, даже чересчур:
«Свет моего разума осветил ужасные трущобы, где таились страхи, где находили себе пристанище варварские силы, столь омрачавшие мою жизнь.
Эти силы не отступали, когда я вплотную подошел к ним. Они приняли бой. Но этот бой был уже неравный.
Я раньше терпел поражения в темноте, не зная, с кем я борюсь, не понимая, как я должен бороться. Но теперь, когда солнце осветило место поединка, я увидел жалкую и варварскую морду моего врага. Я увидел наивные его уловки. Я услышал воинственные его крики, которые меня так устрашали раньше. Но теперь, когда я научился языку врагов, эти крики перестали меня страшить.
И тогда шаг за шагом я стал теснить моего противника. И он, отступая, находил в себе силы бороться, делал судорожные попытки остаться, жить, действовать.
Однако мое сознание контролировало его действия. Уже с легкостью я парировал его удары. Уже с улыбкой встречал его сопротивление.
И тогда объятья страха стали ослабевать. И наконец прекратились. Враг бежал.
Но чего стоила мне эта борьба!»
Это написано — вы помните — в 1943-м. Зощенко уморил себя голодом в 1958-м. Страх свел его с ума не торопясь, — было время поразмыслить, чем заплачено за передышку, за несколько лет покоя. Ведь это был не самообман: какой-то камень — или демон — отвалился тогда от сердца.
Я и сам неохотно скажу то, что сейчас скажу. Но это факт: как раз в 1935 году литературный дар его оставил.
Впрочем, не раньше 3 июня, когда окончена «Голубая книга» — там избранные давнишние сюжеты погружены в ироническую историю морали: эти предисловия и послесловия лучше всех новелл. Как это странно, что Зощенко посчитал нужным проститься с читателем, — неужели предчувствовал?
«А эту Голубую книгу мы заканчиваем у себя на квартире, в Ленинграде, 3 июня 1935 года.
Сидим за письменным столом и пишем эти строчки. Окно открыто. Солнце. Внизу — бульвар. Играет духовой оркестр. Напротив — серый дом. И там, видим, на балкон выходит женщина в лиловом платье. И она смеется, глядя на наше варварское занятие, в сущности не свойственное мужчине и человеку.
И мы смущены. И бросаем это дело.
Привет, друзья. Литературный спектакль окончен. Начинается моя личная жизнь во всей своей красе.
Интересно, что получится».
Цензура, само собой, слог поскребла. Печатный финал — другой, без литературного спектакля и личной жизни. Привет, друзья, — и все.
А после этого числа сочинились еще только две вещицы по-настоящему смешные — причем из каких материй! — «История болезни» (1938) и «Последняя неприятность» (1939).
И совсем в другом тоне, но тоже сильная — вот эта самая «Перед восходом солнца», где стиль неузнаваемый: предложения — из грамматики, слова — из словаря. Существительные обстоятельств, глаголы движения. Вещество этой прозы — вроде сухого льда (в такую, знаете ли, твердую снегообразную массу обращается углекислый газ при — 78,515 по Цельсию). Но эти бедные бесцветные фразы обладают весом и соблюдают ритм. Тающими, исчезающими словами выведен в одном из мнимых пространств — мрачный, твердый узор.
Ровный ряд простых правильных предложений — ни отблеска улыбки. Техника мозаики. Оптика перевернутого бинокля. Мемуары моралиста, рука мастера.
Он не разлюбил игру, но забыл смысл выигрыша — наилучшими ходами устремляется к ничьей.
Сталин опрокинул доску, так сказать, вовремя: до самой смерти Зощенко и долго потом подозревал кое-кто из публики, что «Перед восходом солнца» — шедевр.
А позиция была ничейная.
Зато все остальное проиграно. Библиография Зощенко читается, как скорбный лист: падает пульс — дыхание угнетено — кома — клиническая смерть…
Уже «Возвращенная молодость» (1933) — между нами говоря, жизнерадостна чересчур. Наивность на грани фальши.
Что же касается «Истории моей жизни» (1934) — от лица з/к, воодушевленного строительством Беломорканала, — тут Зощенко стер, так сказать, эту грань. И зашел очень далеко. И упал низко.
«Возмездие» (1936) — просто плохое произведение. По-настоящему плохое. В том же году изготовлен и «Черный принц», но этот очерк хоть не притворяется повестью.
«Керенский» (1937) — чуть ли не еще хуже «Возмездия». Тогда же сочинен «Талисман» — как бы шестая повесть пушкинского Белкина, — убогий такой пастиш, старательным таким тупым пером.
«Тарас Шевченко» (1939), «Рассказы о Ленине» (1940)… Проза уже потусторонняя.
Несколько скучных комедий, а также невозможные «Рассказы партизан» (1944–1947)… Еще горстка новелл после «Голубой книги»: почти все — через силу… Здесь же — пресловутые «Приключения обезьяны», — хотя одна шутка там все-таки живет:
«Ну — обезьяна. Не человек. Не понимает, что к чему. Не видит смысла оставаться в этом городе».
И все. После этой злосчастной обезьяны, и анафемы, провозглашенной Ждановым, и неслыханного постановления ЦК ВКП(б) — Зощенко ничего и не сочинял, кроме писем к товарищу Сталину.
Вот и получается, что Художником он был, пока не выздоровел, — лет пятнадцать. Пока не истратил весь талант на борьбу с талантом.
Перед заходом солнца— Я ведь организую свою личность для нормальной жизни, — говорил, например, в 1927-м еще году Корнею Чуковскому (тоже, кстати, безумцу, и с похожим сюжетом). — Надо жить хорошим третьим сортом. Я нарочно в Москве взял себе в гостинице номер рядом с людской, чтобы слышать ночью звонки и все же спать. Вот вы и Замятин все хотели не по-людски, а я теперь, если плохой рассказ напишу, все равно печатаю. И водку пью.
Догадывался ли он, что так называемое чувство юмора как бы изотоп, что ли, страха смерти; верней — двойная инверсия; что смех и страх, короче, — сиамские близнецы, сросшиеся виском?
А только не слишком дорожил Михаил Зощенко этим своим знаменитым смехом, — «который был в моих книгах, но которого не было в моем сердце». С горькой гордостью приговаривал: клоун должен уметь все — и что он временно исполняет обязанности пролетарского писателя, — а на самом деле продолжать без конца «Декамерон» для бедных прискучило. Покончив с меланхолией, он обещал своим бедным новую «Похвалу глупости» — «с эпиграфом из Кромвеля: „Меня теперь тревожат не мошенники, а тревожат дураки“».
А написал — что написал. И в 1943 году был вполне доволен своей литературой, как и состоянием здоровья. Видно, изменило ему чувство реальности. Видно, думал, что дар у него — неразменный:
«Я вновь взял то, что держал в своих руках, — искусство. Но я взял его уже не дрожащими руками, и не с отчаянием в сердце, и не с печалью во взоре.
Необыкновенная дорога расстилалась передо мной. По ней я иду вот уже много лет. И много лет я не знаю, что такое хандра, меланхолия, тоска. Я забыл, какого они цвета.
Оговорюсь — я не испытываю беспричинной тоски. Но что такое дурное настроение, я, конечно, и теперь знаю — оно зависит от причин, возникающих извне».
Этого уже не напечатали — то есть напечатали через тридцать лет, — а настроение испортили тотчас и навсегда. Насмешка судьбы: отныне и до самой смерти — ни единой минуты, не отравленной ужасом и обидой. Ни дня, ни строчки.
Лично я не сомневаюсь, что сгубила Зощенко эта последняя повесть — «Перед восходом солнца». Непристойное сквернословие в так называемом докладе Жданова и в зловещем Постановлении ЦК явственно отдает жарким, смрадным дыханием Генералиссимуса. Так он обходился только с лютыми, личными врагами. В «Приключениях обезьяны» вы не найдете — современники тоже недоумевали, — не найдете ничего такого, что распалило бы злобу даже в распоследнем дураке. Легкомысленная такая детская сказка на мотив «Колобка». Что Сталин был дурак — не верится, хотя гипотеза соблазнительная: объяснила бы всё… Но слово слишком человечное. Хотя, действительно, в данном эпизоде Великий Вождь смешон, насколько может выглядеть смешным существо, уничтожающее атомной бомбой три странички про мартышку — и автора страничек заодно.
А настоящую причину раскрыть он не мог. Не исключено, что и самому себе не отдавал отчета: что сделал с ним Зощенко. Много лет я подозревал мотив отчасти метафорический: как-никак, «Перед восходом солнца» — трактат о страхе. То есть о секретном стратегическом топливе. Не важно, что формулу Зощенко вывел самодельную, приблизительную. Отвращение к страху — вот что вывело Сталина из себя, думал я. Он принял это как личное оскорбление, хотя вряд ли мог растолковать себе, в чем дело. Вероятно, полагал, что ему противно само это возмутительное зрелище: человек посреди войны, как Архимед какой-нибудь, бесстыдно углублен в отвлеченные мысли. Просто сил никаких нет не пронзить его дротиком или, там, чем попало.