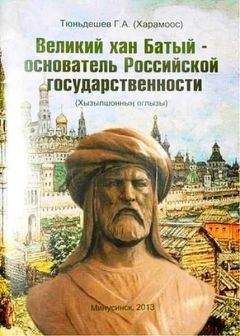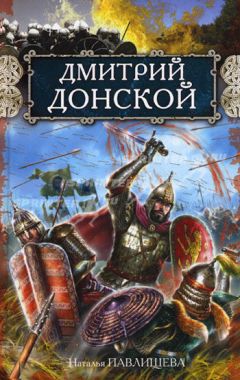На следующий день началась раздача слонов. Генерал-губернатор объявил служивым «большое спасибо», особенно отметив, что первый залп дали «поверх голов, вполне спокойно и согласно, как на учебной стрельбе». Были уволены все аксакалы, кази и, в первую очередь, «туземные полицейские» из клана Иногам-ходжи. Новые кадры набирали из русских отставников или из «туземцев», не имеющих в городе родни. Впрочем, Ма-Якуба тоже сместили, заменив «по случаю необходимости» опытным сызранским приставом Тимофеем Седовым. Полковника Путинцева – «за примерную отвагу» – не уволили, но, понизив в должности за «нераспорядительность», заменили «твердым и энергичным» полковником Тверитиновым. Естественно, возбудили дело. Поскольку все всех знали, а город, в связи с карантином, был закрыт, зачинщиков – 32 «бездомника», 10 мардикоров, 18 «базарного всякого люда» – похватали поголовно, некоторых прямо на местах погромов. Кого-то «за раскаянием» отпустили, но все же на выходе приговоры были серьезные: 8 «шпагатов», 3 «бессрочные ссылки», 17 «к арестантским ротам».
Впрочем, виселицы тут же заменили каторгой (от 15 до 20 лет), а сроки наказания сильно сократили. «Беря во внимание дикость этих бедняг, воспаляющую их воображение сверх всякой меры, – рапортовал Гродеков, – такое решение видится правильным. Действуя по наущению, они срывали со стен прокламации старшего аксакала и самого его прибить хотели, однако же толпа, среди которой не замечено ни единого из состоятельных сословий, не тронула ни Ваших изображений, ни портрета Государя. Также следует иметь в виду, что при немалом количестве в толпе лиц духовного звания, во все время событий ни разу не прозвучали крики о газавате. Мое мнение таково, что просвещение понемногу проникает и в эти темные души».
Барон Вревский, адресат, не возражал.
Напротив. «Из событий, – отвечал он, – в самом деле, видно, что возмущение это, хотя и в низших сословиях, имеет, однако, основу не в старом невежестве, но в новых веяниях. Сей странный азиацкий вид нигилизма и сам явление новое, но все ж много предпочтительней дикости в ее старом привычном понимании. Конечно, явный бунт следует подавлять силою, но сам вид умопомешательства дает основу говорить о благом смысле русского труда на здешней ниве». Иными словами, вояки сходились в том, что с «дикостью» края в основном покончено. Аллах свидетель, они ошибались…
Глава XLII. Геополитическая комедия (9)
Даже не знаю, с чего начать, чтобы, не подумайте плохого, хорошо кончить. Наверное, так…
Итак, жил себе, поживал в большом кишлаке Минг-тепе ученый человек Мухаммед-Али-хальфа Сабир Суфиев. А проще – ишан Мадали. А если еще проще, дукчи-ишан (ишан-колыбельщик), поскольку изготовление колыбелек (дукчи) кормило лучше, чем маленький участок земли. В юности учился у известных ишанов, отрабатывая учение тяжким трудом, а потом унаследовал звание у одного из учителей. Славился добронравием, своими руками посадил рощицу деревьев, чтобы усталые путники могли отдохнуть, совершил хадж, а когда вернулся, пошли слухи, мол, у Гроба в Медине было ему откровение. Дескать, сказал Всевышний, что судьба ему «быть ишаном 10 лет, а потом объявить джихад, но перед тем завести большие котлы и кормить всех голодных». В ответ же на возражения Мадали, что нет у него на такое ни сил, ни денег, Аллах – так он сам говорил – «обещал ему помочь и подарил золотой ковш».
Тут уж ничего не поделаешь: вернувшись домой, начал Мадали не просто ишанить, но кормить народ – сперва в долг, а потом и на пожертвования. Заодно, понятно, творил и чудеса. Всякие. То котлы у него кипели без огня, то амулеты раздавал, превращающие пули в капли воды, – слухи о том со слов «слышавших от тех, кто слышал от тех, кто своими глазами видел видевших воочию», разошлись по Фергане. Вот и стал дукчи-ишан – а в умении влиять на толпу и бешеной энергии отказать ему никак нельзя – авторитетен на всю долину, аж до самого Пишпека. А когда стал, начал понемногу готовить джихад. «Хальфа» (ученики) ему помогали, а многочисленные «раисы» (блюстители) разносили мысли учителя туда-сюда.
Мысли же эти были проще простого: «Он счел себя призванным спасти народ, и с этой целью, прежде всего, освободить его от русской власти», а после того поставить в Фергане «доброго, богобоязненного хана». Присмотрел и кандидатуру: Абдул-Азиз, племянник 14 лет от роду, которому святой дядя помогал бы советами. Натурально, расписали заранее и кому каким визирем быть, а кому в каком городе беком или сборщиком податей. Позже, на суде, он честно объяснил, почему решил возмутить народ. Во-первых, ясен пень, оттого, что негоже правоверным подчиняться «свиноедам», во-вторых, отменена подать на содержание духовенства, что сильно прогневало Аллаха, в-третьих, правильные налоги поменяли на какие-то хотя и не больше, чем раньше, но непонятные, а значит, не от Бога. Опять же, рабство отменили, хотя в Коране сказано про рабов, но не про какие-то отмены.
А главное, чудотворца сильно беспокоила порча нравов в народе, из-за которой, по его мнению, пало Кокандское ханство. «Прежде, при ханах, – объяснял он судьям, – законы были хорошие, всякое преступление каралось строго: за воровство в первый раз отрубали руку, а во второй – голову; народ боялся; теперь за все лишь сажают в острог, сытно кормят, чисто держат, даже если казнить решат, на кол не посадят, повесят, да и все тут; бояться нечего, и вот нравы ухудшились, везде пьют, воруют, грешат развратом, и семьи уже не так крепки, как раньше, а всему виной русские, их глупая мягкость в управлении. Аллах гневен, и прогневается вконец, если мусульмане не истребят неверных, объявив джихад». А потом, сами понимаете, хан наведет порядок, именем самого султана турецкого. Подтверждением чему – вот, грамота от самого падишаха из Стамбула, признавшего за мною, Мадали-ишаном, высшее духовное руководство в Фергане. Грамотку святой человек, конечно, выписал себе сам, но, как признавали очевидцы, бывшие на суде, сам о том забыв, верил в нее истово.
Что уж говорить о пастве, она вообще ни в чем не сомневалась. А если кто сомневался, то уж очень вкусный плов раздавал ишан, да и должности в грядущем ханстве сулил щедро. Опять же, от султана грамотка – это вам не видения, она вот, ее пощупать можно. И так года два, не меньше. Позже в доме ишана нашли не только черновики «чакру-хат» (воззваний), но и груды писем, подписанных самыми разными людьми, вплоть до некоторых волостных старшин, помогавших агитаторам. Короче говоря, перефразируя Шукшина, народ по всей долине был для разврата готов.
Кстати, о народе. Как видно из документов о конфискации имущества осужденных, 48 % имели «малое движимое имущество» (то есть чашка, плошка, кое-какая одежонка плюс кетмень), 30 % не имели вообще ничего, даже обуви, 12 % владели кой-каким скотом, в основном ишаками, 10 % – небольшие участки земли. В целом, люмпены и поденщики (из 208 сосланных в Сибирь только три «знающих мастерство» – сапожник, штукатур и портной). Ну и, как водится, сколько-то все тех же «бывших» – нищенствующих «баши» бывших ханских войск всех рангов. Эти заранее знали, кто где будет шефом стражи, кто губернатором, а кто генералом. Такой вот «национально-освободительный» контингент. Неудивительно, что отказывающимся «отдать посыльным зякат (духовный налог) за 15 лет, который они греховно не платили, на дело газавата» (такие письма с середины февраля подбрасывали в Коканде богатым людям от имени ишана), приходилось горько жалеть.
Рэкет, конечно, а что поделаешь? – а в марте-апреле 1898 года у тех, что готов был подать пример, выступив с оружием в руках, начали брать подписку – «клятву верности» – причем волостные аксакалы, ученики ишана, обязаны были скреплять ее своими печатями. «Во-первых, – гласила присяга, – для Бога и Пророка, мы должны быть победителями в священной войне, и во-вторых, пожертвовать жизнью в священной войне. Если по наущению шайтана, из себялюбия или из опасения за свою жизнь мы, оробев, откажемся от исполнения обета, да будем мы достойны ада, да почернеют в обоих мирах наши лица, да будем в день страшного суда посрамлены и опозорены». Правда, долго не могли определить срок: то говорили, что «нужно только подождать, пока поправятся лошади», то «когда созреет ячмень», а то и «как только число готовых одолеть неверных достигнет тысячи».
Но, по-любому, люди нервничали. Они «устали ждать». И святому человеку приходилось спешить. Тем паче шило в мешке никто не собирался прятать: о джихаде, подробно объясняя, где и когда собираться, вещал с мимбара сам Мадали, о том же шушукались на базарах, в чайханах и гашишнях. И не только в Андижане, но и в Оше, и в Маргелане, где «дремали», ожидая сигнала, достаточно сильные ячейки. «Район, знавший о волнениях, значительно обширнее, чем можно заключить из данных судебного разбирательства», – докладывало позже военное руководство в Ташкент. Но именно позже. До того же власти не обращали внимания на тревожные намеки. Вплоть до четких доносов. Только в Оше некий подполковник Зайцев отнесся к делу более серьезно, и несколько ключевых фигур подполья попали под арест, после чего дукчи-ишан, опасаясь новых утечек, решил, что медлить более нельзя, – и если в Андижане получится, займется вся долина и киргизские предгорья.