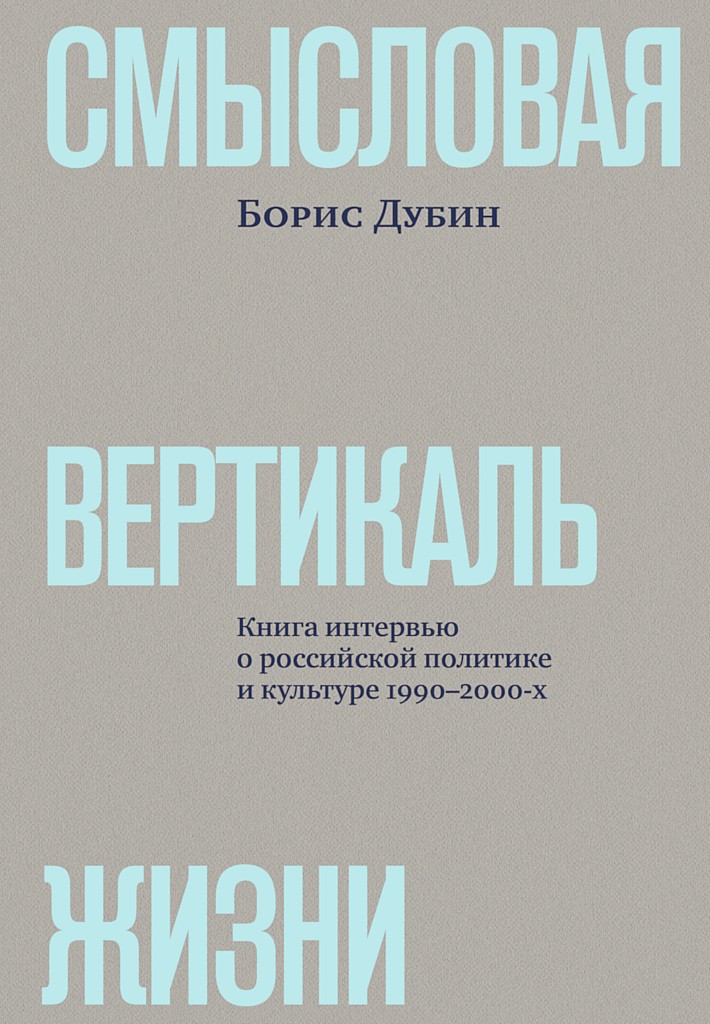уже о потере человеческой солидарности, желания понять другого. Теоретически мы думали, что это состояние привычности, бессилия, общего неучастия, раздробленности, размазанности, рассеянности будет приводить к гниению и загниванию строя. Но оказалось, что можно быстро перевести его в состояние экстраординарности, очень свойственное России. Чрезвычайность — это мощное орудие власти, которая другими способами не может воздействовать на население.
И вот это, собственно, мне кажется самым серьезным. Мы наблюдаем, как Россия вытесняет проблемы, сдвигает, смещает на другие регионы, на других людей, ища в ком-то врагов, а в ком-то — материал, из которого можно лепить все, что нужно. Я думаю, что Украина выплывет из нынешней ситуации, но не уверен, что выплывет Россия. Она — настоящая жертва, причем жертва, которую совершенно не хочется жалеть после того, какой выбор сделала подавляющая часть населения. Так что им самим — нам — распутывать весь клубок проблем и нести всю тяжесть расплаты за принятые сейчас решения.
Как вы расцениваете сейчас протестную активность конца 2011-го — 2012 года?
Тогда многие думали, что это начало чего-то. Но это был знак конца. «Последний парад наступает». Его, конечно, можно продлить — вот опять до 60 тысяч вышли на «Марш мира». Но мы вступили в ситуацию, где это не будет иметь никакого значения. А если будет, то очень отдаленное, не сегодня. Само состояние социальной материи оказалось таким, что меры, которые мы принимали для ее сплочения и оздоровления, выглядят лабораторными экспериментами во время эпидемии.
Можно дождаться очередного потепления, можно попробовать сплотиться, но пока нет оснований считать, что это станет на сколько-нибудь устойчивые рельсы и будет пройдена какая-то точка невозврата. И есть все основания думать, что впереди будет существенно хуже для всех.
Вы для себя лично какой рецепт выбрали?
Меня перспектива маргинальности и одиночества не беспокоит — в этом климате я привык жить, для меня это не страшно. Меня беспокоит другое: рвутся связи между людьми, которые были вместе, и между страной и большим миром, которые, казалось, худо-бедно, но за последнюю четверть века начали завязываться.
Я буду продолжать делать то, что я делал, и по возможности вместе с людьми, с которыми я это раньше делал. Но я впервые в жизни задумался о том, что, может быть, молодым людям надо уезжать. Ситуация сильнейшим образом скажется на их жизни — духовной, душевной, умственной, деятельной и будет иметь самые серьезные последствия, от медицинских до гражданских.
Впервые: Независимая газета Ex Libris. 2002. № 20 (231). 20 июня. Републикация: Дубин Б. Главным в России стал средний человек // Шаповал С. Беседы на рубеже тысячелетий. М.: Новое литературное обозрение, 2018. С. 332–339.
Борис Дубин — литератор и социолог, один из любимых авторов «Независимой газеты Ex Libris». Работает ведущим научным сотрудником Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Занимается проблемами массовой информации, культуры, религии, межпоколенческих отношений. Переводит с английского, французского, испанского и польского языков, среди авторов — Хорхе Луис Борхес, Исайя Берлин, Октавио Пас, Чеслав Милош, Хулио Кортасар.
Борис Владимирович, каким с точки зрения социологии литературы вам видится начало истекшего литературного десятилетия?
Мне кажется, начало десятилетия — это инерция и исчерпание тех инициатив, которые развернулись еще во второй половине 1980-х, в рамках тогдашнего СССР. Литература освобождалась от всякого рода внешних социальных давлений — цензуры, организаций советского типа, сложившейся издательской системы. Но это освобождение — среди прочего и достаточно неожиданно — привело к значительной потере внутренней структурности. Падение тиражей толстых журналов с начала 1990-х — явление неслучайное. Журналы — это органы литературных групп, а взлет групповых инициатив пришелся на конец 1980-х, когда появились писатели, находившиеся в подполье, за рубежом, давно умершие, но не публиковавшиеся у нас, зарубежные, но по тем же резонам здесь не печатавшиеся и прочее. Все выплеснулось разом. К 1992 году тиражи журналов пошли на спад, к этому присоединились экономические трудности. Литература с провалившимся журнальным уровнем предполагает другую ее организацию. С этого времени начинается осознание того факта, что позднесоветская интеллигенция исчерпала свои функции и не справляется с новой ситуацией. К этому присоединилась массовизация. Массовизация не только издательского потока, но и самого писательского самоопределения.
Роль писателя была пересмотрена, появился писатель-профессионал, то есть писатель, работающий на рынок, тесно связанный с издателем и читателем, зависящий от продаваемости его продукции. Я не могу сказать, что роль писателя-профессионала сложилась окончательно, но явно обозначилась. В советское время это амплуа отсутствовало.
А Юлиан Семенов, например?
Юлиан Семенов в очень большой степени был прикормлен властью, ему была обеспечена широкая дорога. Сочетание массового спроса (а читательский спрос на детективы — по соображениям идеологической чистоты — многие десятилетия не удовлетворялся) с телевизионными экранизациями дало всплеск интереса к нему и создало его литературную и общественную репутацию.
В начале 1990-х вкусы читателей отчетливо массовизировались, теперь они легко и быстро сбросили с себя интеллигентский налет, перейдя на чтение боевиков, детективов, любовных романов.
Изменилась и ситуация литературного критика. Он привык работать в журнале, ему пришлось перейти в газету. Его просветительская роль сильно понизилась, а идея литературы как главной составляющей русской культуры изрядно потускнела. С этим соединился широкий выброс на рынок аудиовизуальных продуктов.
Перемены в судьбе литературы с социологической точки зрения во многом парадоксальны. Вроде бы она освободилась от социального давления, но при этом утратила формы внутренней самоорганизации. С другой стороны, к концу 1990-х ситуация социального бытования литературы, существования писателя, поведения читателя если уже не вовсе закаменела, то у нас на глазах явно застывает, но при этом она остается слабо дифференцированной, дряблой, она очень плохо структурирована. В начале 1990-х была большая надежда на новые журналы, а где они? Можно поднапрячься и назвать штук пять, но сколько из них реально влиятельных? В первую очередь это «Новое литературное обозрение» и сопутствующий ему «Неприкосновенный запас», но они ведь не собственно литературные: они либо литературно-архивные, либо культурологические, либо публицистическо-полемические. В этом смысле можно сказать, что новых групп, заявивших о себе через журналы, не появилось или они пока недостаточно влиятельны. В то же время оформился своеобразный, плохо структурированный, хотя вполне работающий механизм — тусовка. Видимо, это и есть сегодня ведущая форма организации в культуре вообще. Тут сложились свои ритуалы: презентации, премии, конкурсы. Но каналов коммуникации с широким кругом читателей я сегодня не вижу. В социологическом плане очень важно, что из культурного поля исчезла фигура так называемого первого читателя.