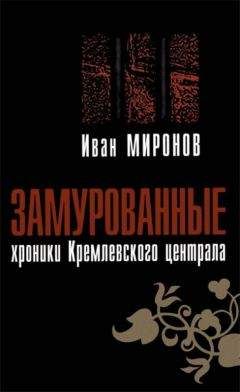Тормоза открылись, меня подняли в зал, где судья в очередной раз решил продлить мне срок содержания под стражей. Зато из клетки повидался с родными, увидел только что вышедшую книгу "Роковая сделка: как продавали Аляску" под своим авторством. Аж, пробирает от гордости. Адвокаты ходатайствовали о приобщении книги к делу. Забавляются защитнички!
Когда везли в суд, прямо надо мной потолок в автозаке вдавливала крышка люка. Из надписи "аварийный выход" путем отрываний и перестановок пассажиры-сидельцы собрали короткое "В РАЙ". Как все просто, близко и верно — кусок жести между преисподней и раем. Только люк этот оказался заварен…
Но вернемся в "стакан" Басманного суда. Сюда за девять месяцев я попадаю в третий раз. Надписи на стенах — крик арестантских душ — исполнены в духе "здесь был Вася", только к "Васе" непременно приписка статьи и срока. Например, "Минск 228 ч.3 Толя" (наркота в особо крупном, группой лиц), или "Вано из Челябинской обл. г. Сатка, дали 4 года ст.162 ч.2" (групповой разбой)… "Тамбов! Стоять насмерть! За вами Ленинград!" (судя по всему — отклик на арест Кумарина), чуть ниже уже другой рукой карандашом нацарапано "Выстоим!", "N-банк не сдается и не признается" (рука менеджера банка "Нефтяной"), "Смерть козлам! Свободу хохлам!" (недобрая ирония над памятью почившего в бозе первого зампреда ЦБ). Одним словом, утром — в газете, вечером — в куплете.
"Стакан", в котором я сижу, похож на келью своим угловым сводом. Площадью полтора на полтора, высотою чуть за два метра, с узкой железной дверью. Напротив дверных "тормозов", деревянный приступок вдоль стены длиной соответственно полтора метра, шириной сантиметров тридцать. Можно даже изловчиться полежать, боком скрутившись и закинув ноги на стену. Пол бетонный, бордово-грязный. Стены в серо-зеленой шубе, зашпаклеванной хабариками. Ход времени здесь теряется, подсчет его весьма относителен: в 9.00 вывели из хаты, где-то к одиннадцати привезли в суд, через пару часов подняли в зал, измывались над правосудием еще полтора часа. Значит, сейчас где-то в районе трех, а конура приедет не раньше восьми. Итого: чистых семь-восемь часов маяты в этой вонючей кладовке.
На обратном пути воронок забили до отказа. На общем фоне своей анатомической громоздкостью и громким матом выделялись четверо подельников: бычьи лбы, тяжелый вязкий взгляд, трактороподобные фигуры, здоровенные ломовые руки.
— Сейчас Каху посадят и поедем, — объявил на весь воронок самый породистый бык.
— Кто сказал моё имя? — рявкнуло снаружи.
— Это я, — нерешительно прогнусавил бык.
— Кто такой? — снаружи потребовали уточнений.
— Андрейка, — застенчиво пролепетала глыба.
— Кто такой? Откуда?
— Андрейка, с общего, с "Матроски", — голос стал походить на щенячье повизгиванье.
— Что ты сказал?
— Эта… Что дождемся Каху-жулика и поедем…
— По коням! — раздалось мусорское-залихватское, оборвавшее диалог.
— Кавалеристы хреновы, — буркнул кто-то злобно.
Застучало железо, зарычал дизель, медленно набирая обороты. Попрятав головы в плечи, банда тяжеловесов за всю дорогу больше не проронила ни слова.
СОЛДАТ
Пожитки перетащил на шестой этаж, составив возле 607-й хаты. В камере тускло и накурено. За последние полгода я почти отвык от этого запаха, который моментально сдавил виски, обострив тревогу и апатию. За столом сидели двое, кидали кости и курили. Один — нерусский, худой, маленького росточка, походил на сжатую пружину силы и нервов. Другой напоминал пингвина, со злобно-обиженным выражением лица, с подкожной улыбкой, перетянутой, словно обивка вековой тахты, с уксусно-желчными глазами, отражавшими яд души и гнилость тела. Я затащил баулы в хату. На мое "здрасьте" лишь кивнули, не отрываясь от игры.
— Помочь? — лениво раздалось из глубины камеры.
— Справлюсь, — ответил я, разглядев в тюремном полумраке крепкого парня, одетого в дорогой спортивный костюм и с книжкой в руках: густые черные волосы, интеллигентные, правильные черты лица, осмысленный, радушный взгляд и широкая, скорее дежурная, чем искренняя улыбка. На первый взгляд ему нельзя было дать больше тридцати.
Закинув в хату багаж и бросив матрас на шконку, я рассмотрел "номер" и познакомился с новой компанией. В камере жило пятеро. Пингвина звали Паша Гурин, маленького шустрого молдаванина — Олег Гуцу, черноволосого — Алексей Шерстобитов. Кроме них арестантское ярмо тащили здесь рейдер Бадри Шенгелия и таможенник Вадим Андреев.
Бадри всего сорок два, но возраст для него стал чистой формальностью сопровождающих документов: бледное лицо, отливающее трупной желтизной, еле тлеющие зрачки в едко-фиолетовых окаемках глазниц, дыхание с удушливым хрипом. Замызганный свитер хозяина заводов и пароходов оттягивала непропорциональная фигуре здоровенная торба с требухой.
Вадим похож на удивленного дога: взгляд грустный, недоверчивый, смиренно принимающий клетчатую реальность, но отказывающийся к ней привыкать. Лысый, сутулый, с оттопыренным кадыком, резко похудевший в тюрьме, с добродушно растерянным лицом, он располагал к себе. Андреев — хозяин таможенного терминала — был уличен в контрабанде и после месячной "прожарки" в наркоманских и завшивленных хатах общей "Матроски" уже полгода "отдыхал" на "девятке".
Молдаванин со своей бандой специализировался на грабеже крутых квартир и особняков. Получить меньше "червонца" он не мечтал, и, особо не тяготясь, коротал время за игрой в кости и разгадыванием нехитрых кроссвордов.
Паша Гурин казался пассажиром странным. Проходил, с его слов, по делу кражи антиквариата из Третьяковки. Странность заключалась в том, что на "девятке" он был недавно и перевели его сюда с детскими, по здешним меркам, статьями. Объяснить сию причуду следствия он толком не мог, лишь нагонял блатных понтов и тумана. Как-то Паша упомянул, что на следственных действиях его держат в клетке. Какую угрозу следаку мог представлять желеобразный, физически безвредный крадун со своей травоядной статьей, оставалось загадкой.
Хата впечатляла количеством еды и литературы.
Два холодильника набиты бастурмой, дорогими колбасами, изысканными сырами и вареной бараниной. Все шкафчики ломились от хлебобулочных и шоколадных деликатесов, пол вдоль стены в беспорядке завален овощами и фруктами. Запасы не успевали съедать. Сыр зеленел, хлеб черствел, фрукты гнили. Чистота и порядок в хате никого не заботили: кругом пыль, грязь и плесень. Даже зеркало на дальняке покрыто жирной пленкой. Пол под слоем пыли потерял свой естественный цвет, а "дубок" — алтарь арестантского бытия, обильно замаран засохшими подтеками.
Две верхние шконки, одна — над грузином, другая — над молдаванином, заставлены стопками книг и журналов. Круг интересов сокамерников поражал редкостным разнообразием. Рядом с жирным мужским глянцем соседствовали журналы "Вокруг света", "Вопросы истории", "Родина". Чернели потертые корешки казенных исторических романов и монографий, чуть поодаль россыпью валялись свежие "Эксперт", "Деньги", "Профиль"…
Заварили чай, зэки неспешно стали подтягиваться к столу. Паша-пингвин достал из холодильника полпалки докторской колбасы. Наверное, я бы меньше удивился мобильнику, чем вареной колбасе.
— Откуда такая роскошь?
— Мне по диете заходит, — скривил рот Бадри.
— У нас еще вареной баранины килограмм пять, — похвастался Паша.
— Неужели в сорок кило укладываешься?
— Еще центнер дополнительно разрешили, — пояснил грузин.
Диет на централе несколько. Формально они утверждаются начальником изолятора по представлению начмеда. Однако единственная диета, которая предписывалась по состоянию здоровья, сводилась к получению раз в неделю вареного яйца и шленки риса или манки. Диета N2 разрешала получать в передачах некоторые разносолы — от вареной телятины до жареной картошки с грибами. Диета N3, помимо неограниченного ассортимента, допускала неограниченный вес в две, а то и в три нормы. Чтобы получать вторую диету, необходимо совпадение следующих звезд: подорванное здоровье, прекрасные отношения с администрацией и отсутствие противодействия по этому вопросу со стороны следствия. Третья диета называлась "сучьей", поскольку предписывалась в качестве особого поощрения за сотрудничество с органами. Чтобы ее получить, подробного покаяния было недостаточно, в лучшем случае надо загрузить подельников, в худшем — подписаться на оговор и лжесвидетельство. Баранинка выходила с душком предательства и подлости, стоила чьей-то кровушки и волюшки.
— Иван, у тебя есть что почитать? — прервал мои раздумья Алексей Шерстобитов.
— Полный баул. Архив русской революции, потом…
— Это который в двенадцати томах?
— Да, — удивленно протянул я. Подкованность нового собеседника произвела впечатление. — Еще трехтомник Троцкого "История русской революции", ну, и всякого разного по мелочам.