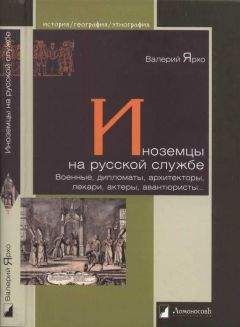Представление древнего грека о семейной жизни существенно отличалось от современного. Мы, не будучи ханжами, считаем удачным такой брак, в котором взаимное физическое влечение соединяется с единством духовных интересов супругов. Для грека обе эти предпосылки семейного союза не казались не только необходимыми, но даже желательными: вступление в брак считалось гражданской обязанностью обеих сторон, причем молодым людям даже не обязательно было заранее знать друг друга. У того же Менандра почти в каждой комедии есть примеры такого брака, и результаты его достаточно ясно представлены в положении отца семейства из "Ожерелья" (фр. 1-2) и в многочисленных высказываниях о супружестве. Однако даже в тех случаях, когда супруги хорошо уживаются друг с другом, семейное согласие наступает после того, как несколько месяцев, проведенных в браке, доказывают "совместимость" обеих сторон (А. 3-12).В принципе же от такого брака двух не известных друг другу людей нечего было ожидать ни совпадения духовных интересов, ни особой радости в чисто физическом смысле. Главной целью супружества было "рождение законных детей" {Ср. Менандр, Б. 842 и прим.} и приобретение в лице жены человека, умело распоряжающегося домом. Именно об этом говорил некий оратор в известной под именем Демосфена речи против гетеры Неэры: "Гетер мы содержим ради наслаждения, сожительниц - для заботы о теле в повседневной жизни, жен же берем, чтобы у нас рождались законные дети и был надежный сторож в домашнем хозяйстве" {[Demosth.] LIX 122.}.
Возвращаясь к Фрасониду, равно как к Полемону и Стратофану, мы можем сказать, что их образы в полной мере соответствовали бы античному представлению о любви, если бы исчерпывались стремлением к физическому обладанию привлекающей их женщиной. Вступительный монолог Фрасонида целиком отвечает этой стороне образа влюбленного юноши. Когда, однако, в решающем объяснении с Кратией он говорит о ее "почитании", то употребленный здесь греческий глагол (Н. 307 сл.) не имеет эротической окраски, а содержит этическую оценку: он передает обычно чувства, существующие между детьми и родителями, братьями и сестрами, близкими друзьями, и свидетельствует о взаимном уважении как норме дружественных связей. К тому же все поведение Фрасонида отличается именно таким уважением и деликатностью по отношению к девушке-рабыне, перед которыми чувственная сторона любви даже как будто бы отступает на задний план. В образе Полемона, при существующем состоянии текста, трудно установить такую же степень одухотворенности, какой отличается Фрасонид, но и здесь трогательные жалобы и чистосердечное раскаяние покинутого возлюбленного (О. 1018-1020) показывают, что его связывает с Гликерой не одно лишь физическое влечение.
Конечно, к концу каждой комедии все недоразумения разъясняются, все трудности отпадают, и несчастный воин может вступить со своей возлюбленной в законный брак. Конечно, к благополучному финалу ведет то случайное опознание в обоих будущих супругах полноправных граждан (Стратофана и Филумены - Ск. 280-310, 361-381; Гликеры - О. 802-824), то неожиданное появление человека, в чьей гибели напрасно подозревали воина {См. прим. к "Ненавистному", 403.}, - без игры Случая трудно представить себе завершение менандровской комедии. Гораздо важнее, однако, что развязка в нравственном плане подготовляется изнутри, что готовность к соединению созревает в молодых людях независимо от внешнего толчка, распутывающего интригу. В этой связи в комедиях о воине особого внимания заслуживает и то обстоятельство, что их участники интересуются мнением женской половины.
...В стихах, которыми заканчивается для нас текст "Остриженной", Патэк сообщает о намерении женить Мосхиона на дочери некоего Филина (О. 10241026), - кто такая его дочь и почему ей следует выйти замуж за Мосхиона, неизвестно. Едва ли в этом виновато состояние текста, - в "Брюзге", дошедшем полностью, для Сострата важно заручиться согласием Кнемона на его свадьбу с дочерью старика, а затем уговорить своего отца Каллиппида выдать дочь за Горгпя. Никому и в голову не приходит спросить согласия у самих девушек: считается, что для каждой из них счастье брак с достойным молодым человеком, а с которым именно, полагается решать ее отцу {Ср. также 3. 5-12; Д. I, 34 сл.}. Иначе обстоит дело с Кратией и Гликерой.
Не только воины, находившиеся до сих пор в опале, ждут решения своих возлюбленных, - сами отцы, чья власть над дочерями не подлежала никакому сомнению, уговаривают девушек или выясняют их истинное отношение к будущему мужу (О. 1006-1008; Н. 438-441), необычная ситуация в афинском быту и не столь частая, как мы видели, даже на афинской сцене. Для комедии внимание, уделяемое чувству женщины, - такая же новость, как и воин, проявляющий уважение к этому чувству.
Не следует думать, что в театре Менандра не попадалась и обычная для комедии фигура воина, хвастуна и бабника, - этому представлению противоречат отрывки, сохранившиеся от "Льстеца", и некоторые фрагменты {Фр. 411, 412.}. Но столь же ясно, что Полемон, Фрасонид и Стратофан имели мало общего с этой фигурой. Та принадлежала традиции, стереотипу, эти - самой жизни. Ибо реальный быт IV в. делал наемничество почти неизбежным способом существования для многих сотен мужчин, потерявших землю и кров, а интерес к внутреннему миру рядового человека все больше овладевал философией и этикой, стремившимися к выработке новых норм поведения и нравственности в изменившемся мире.
бгбрщ
8.
Упомянув о связи образов Менандра с современной ему философией, мы затронули одну из самых болезненных проблем современного менандроведения, которое разделилось по этому вопросу на два непримиримых лагеря. Одни, памятуя о том, что юный Менандр посещал лекции Феофраста и был другом Эпикура, находят в речах его персонажей много мыслей, сходных с высказываниями Аристотеля или его последователей, и считают творчество Менандра едва ли не рупором идей перипатетиков и эпикурейцев. Другие, замечая, что эти изречения часто вложены в уста рабов, которые их якобы высмеивают, не видят серьезных связей между комедией и философией, сводя отношения между ними к более или менее откровенной пародии. Один из таких отрывков, толкуемых каждой из спорящих сторон с прямо противоположных позиций, - речь раба Онисима в комедии "Третейский суд": "В каждом из нас боги поселили в качестве надзирателя его собственный нрав. Одного он губит, если человек им плохо пользуется, другого спасает. Он и есть для нас бог и причина того, как живется каждому, - хорошо или плохо" (Т. 735-740).
Слова эти, произносимые в конце пьесы, когда интрига уже исчерпана, и все нравственные вопросы разрешены, и вправду похожи на издевательство наглого раба над совершенно растерявшимся Смикрином. Вместе с тем нельзя отрицать, что по существу своему они очень точно отражают положение дел в комедии, которые никогда не пришли бы к благополучному концу, если бы людьми не руководил добрый нрав. Набор действующих лиц и сюжетных ходов в "Третейском суде", на первый взгляд, ближе к традиционным стереотипам, чем в любой другой известной нам комедии Менандра. В самом деле, здесь есть столь необходимое для трафаретной интриги насилие над девушкой со стороны подгулявшего юноши и сорванный с его руки перстень, призванный сыграть свою роль в опознании; есть подброшенный и найденный ребенок, есть человек, который опознает в женщине жертву насилия и, стало быть, мать новорожденного. Среди персонажей мы найдем женатого молодого человека, проводящего дни в кутежах с гетерой, и самую гетеру, нанятую играть роль коварной разлучницы; найдем раба, заварившего всю эту кашу и не знающего, как ее расхлебать, и старого тестя, с досадой подсчитывающего расходы зятя на веселую жизнь. Стоит, однако, вчитаться в пьесу, как мы убеждаемся в кардинальном переосмыслении стандартных образов и ситуаций.
Начнем с опознания. В одних комедиях Менандра оно занимает несколько стихов, в других составляет содержание напряженнейшей сцены (например в "Остриженной", 755-827), но нет другой его пьесы, в которой бы опознание растянулось на три действия, и из отдельных его этапов только постепенно сложилась бы цельная картина. Колечко, найденное при подброшенном ребенке, заставляет Онисима предположить, что отцом подкидыша является его хозяин Харисий (Т. 387-407, 445-472), и в другой пьесе этого было бы достаточно для выяснения всей правды. В "Третейском суде" Онисим много раз пытается подступиться к Харисию, но никак не может набраться смелости, пока вмешательство Габротонон не заставляет его поручить это дело ей для решительного испытания возможного насильника. Но и выяснение отцовства Харисия еще не дает ответа на вопрос о матери и служит для молодого мужа только причиной новых терзаний: какое право имел он преследовать за девичий грех свою супругу, если сам успел стать отцом внебрачного ребенка (Т. 894-900, 908-918)? Только случайная встреча Габротонон с Памфялой приводит к опознанию матери, да и эта случайность хорошо подготовлена Менандром: если бы Смикрин не настаивал перед дочерью на разводе, у нее не было бы причины выходить для разговора с ним из дому.