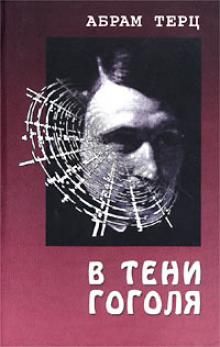(Гоголь — психолог? Скорее — геолог, географ. Люди его занимают как странные минералы, редкие ископаемые, музейные экспонаты какой-нибудь флоры иль фауны, служащие обнаружению тайн, законов и капризов природы.)
Там, на большой глубине и мощности залегания, у самого ядра бытия, покоятся клады, хранилища заветных энергий, имеющих перековать человечество посредством им же сокрытых, незнаемых массивов, бассейнов. Нужно только разумно, искусно ими воспользоваться, подобрать ключ к замку, найти всему надлежащее, по должности, применение…
(Писатель-исследователь-делатель в его запросах и опытах слагались в одну фигуру, хоть и вступали порой в жестокую междоусобицу.)
«….Что же было бы тогда, если бы этот каприз был осмыслен и направлен к добру?» — ломает голову Гоголь над превратностями красавицы. «Презагадочный для меня человек Павел Иванович Чичиков! Ведь если бы с этакой волей и настойчивостью да на доброе дело!» — хлопочет он вместе с Муразовым, всеобщим опекуном, о преобразовании вражины в Сивку-Бурку. В самом деле — что бы было тогда, если б Чичиков копил и работал не в свою шкатулку, но в осуществление великого поприща, мудрого предначертания? Если б всю тоску и безмерность российских просторов завинтить его оборотливой, не знающей утомления волей?
«…И вон она понеслась, понеслась, понеслась!.. Остановился пораженный Божьим чудом созерцатель: не молния ли это, сброшенная с неба? что значит это наводящее ужас движение? и что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях?..»
Критику немало смущало, что на гоголевской тройке едет-то все-таки Чичиков! Загвоздка, однако, не в том, что он едет, но в том, что он везет, что без него не обошлась, не прогремела бы вдохновенная тройка, которая ведь не просто бесплатное приложение к «Ниве», сочиненное невпопад сатирическому сюжету поэмы, для того чтобы нам потом было что учить наизусть, но законное колесо и конечное производное Чичикова, и на нем, на окаянном, постылом, всё в ней вертится и несется в неоглядную даль. Иначе зачем бы потребовалось затрачивать столько стараний на то, чтобы «припрячь подлеца», хорошо его обуздав, застращав (вот где понадобился генерал-губернатор!), наваливаясь кагалом — с автором во главе, с Костанжогло в горле (не выговоришь, и долго он, Гоголь, отхаркивался от застрявшей фамилии, клича свою худобу Скудронжогло и Гоброжогло, не в силах расстаться, однако ж, с разъевшей кость червоточиной, с глаголом «жечь!», отчего хмурое лицо иноземца почернело и запеклось в прожженное кислотою пятно), с Муразовым в коренниках, с этим Мининым и Пожарским зараз, с державинским волшебным Мурзою, стратегом-миллионером (что, ждите, с гостинцами явится и всем — от пуза — по чеку)…
Спрашивается: с таким активом — нуждаться в Чичикове?! Что они — сами не могут? Не могут. Не кони. Призраки. Транспаранты, состряпанные кое-как, на соплях, с одной задачей — учить и перевоспитывать Чичикова, проча в пристяжные России: иначе — не свезешь, не потянешь. «Ведь если бы с этакой волей и настойчивостью да на доброе дело!» Костанжогло не вытанцовывается, сколько ни жилься, ни жги; Муразов — сплошная дыра, протертая в школьном альбомчике с надеждой увековечить портрет гуманного ростовщика, доброго американского дядюшки, подоспевшего с несметным наследством; а Чичиков кинь ему горстку-другую навозцу — смотришь, уже зачирикал, приветствуя каждого: жив. Как же им за живого не ухватиться: действительность!
«…И мчится вся вдохновенная Богом!..»
(Да, но впряжен в нее у Гоголя — чорт…)
Верим — не то что верим — видим: Чичиков мчит.
Допускаем — хотя с натяжкой: промышлением начальства, уговорами почитателей, надзирателей, духовных и жандармских чинов — Чичиков завяжет проказничать.
Но потянет ли он, исправившись, лямку с тем же азартом — ради одного удовольствия тянуть ее в поте лица?
На вопросе этом Гоголь запнулся. Уж с какого бока ни подъезжал он к своему подопечному — и грозил ему палашом и Сибирью, и раскидывал глубокую этику и поэзию земледелия (в предварение наблюдений в этой области Гл. Успенского). Задолго до Гладкова, до Горького пропел он дифирамбы труду, из проклятия, наказания — вопреки церковным запретам — обращенному Гоголем в подвиг самодеятельного подражания Богу. (У Костанжогло в запальчивости от этих речей на челе проскакивал уже венец Вседержителя…) Ну а Чичиков?
«— Так вы полагаете, что хлебопашеством доходчивей заниматься? спросил Чичиков.
— Законнее, а не то что доходнее. Возделывай землю в поте лица своего, сказано. Тут нечего мудрить. Это уж опытом веков доказано, что в земледельческом звании человек нравственней, чище, благороднее, выше. Не говорю — не заниматься другим, но чтобы в основание легло хлебопашество вот что! Фабрики заведутся сами собой, да заведутся законные фабрики — того, что нужно здесь, под рукой человеку, на месте, а не эти всякие потребности, расслабившие теперешних людей… Да вот же не заведу у себя, как ты там ни говори в их пользу, никаких этих внушающих высшие потребности производств, ни табака, ни сахара, хоть бы потерял миллион. Пусть же, если входит разврат в мир, так не через мои руки! Пусть я буду перед Богом прав…
— Для меня изумительнее всего, как при благоразумном управлении, из останков, из обрезков получается, что и всякая дрянь дает доход».
Что он табаком погнушается при этакой целенаправленности, откажется от сахара, от лезущего в рот миллиона, от прокладыванья железных дорог, также, кстати, не встречавших сочувствия Гоголя, хоть и был тот любителем быстрой езды («какой же русский не любит быстрой езды?..»)? Ему на все эти тонкости, прямо скажем, начхать; из россказней Костанжогло он гнет свое и не может не гнуть; не был бы он перводвигателем — рассуждай он по-другому, как Гоголь, и Гоголь его видел насквозь и продолжал поучать и улещивать, видя бесполезность затеи, не в силах остановиться, ни выскочить, ни приструнить взятого в упряжку мерзавца…
«— Да, — сказал Костанжогло отрывисто, точно как бы он сердился на самого Чичикова, — надобно иметь любовь к труду. Без этого ничего нельзя сделать. Надобно полюбить хозяйство, да!..И не потому, что растут деньги деньги деньгами, — но потому, что всё это дело рук твоих; потому что видишь, как ты всему причина, ты творец всего, и от тебя, как от какого-нибудь мага[5], сыплется изобилье и добро на всё. Да где вы найдете мне равное наслажденье? — сказал Костанжогло, и лицо его поднялось кверху, морщины исчезнули. Как царь в день торжественного венчания своего, сиял он весь, и казалось, как бы лучи исходили из его лица. — Да в целом мире не отыщете вы подобного наслажденья! Здесь, именно здесь подражает Богу человек. Бог предоставил себе дело творенья, как высшее всех наслажденье, и требует от человека также, чтобы он был подобным творцом благоденствия вокруг себя».
Ну а Чичиков тоже — следом за Костанжогло, за Гоголем — потянется в боги, в хлысты, поставит капитал и рабочих на возведение лестницы в небо? Поставит, на что угодно поставит — на сахар, на всякую дрянь. Он лоснится от восторга, он глотает слюну, слушая хозяйские речи, отзванивающие ему полновесным, трудолюбивым рублем. Но прижмите ему аппетит, уберите целковый…
«…Как вдруг конь на всем скаку остановился, заворотил к нему морду и, чудо, засмеялся! белые зубы страшно блеснули двумя рядами во мраке. Дыбом поднялись волоса на голове колдуна» («Страшная Месть»).
Гоголю не везло с пристяжными. Да и поездки и полеты его были всё по кривой. Он рвался в будущее и, непостижимым путем, давая косяка, кругаля, оказывался в хвосте истории. Устремлялся идеалами в прошлое, в патриархальные времена, и выныривал впереди каравана. Как колдун, что, уходя от расплаты, подвигался к ней ближе и ближе, и куда бы ни поворачивал коня, его мчало в противоположную сторону. Как Хома Брут, забивший поленом, как лошадь, прекрасную панночку-ведьму, бежавший в ужасе прочь и неудержимо, кругами, всё возвращавшийся вспять — к своей жертве и смерти. И главное, он заранее знал, что так оно и будет, и чорт его занесет неведомо куда, и ждал, и противился, и, случалось, искал уже сам, как бы дать стрекача, кругаля, и несся вперед, но его тянуло назад.
И шире — пространство у Гоголя коробится и круглится, не уходя прямиком к горизонту, но выгибаясь в какую-то сфероидную, что ли, форму; прямые, «вытянутые по воздуху», становятся кривыми, словно знают теорию Римана, благодаря чему неудержимая тройка, уносящаяся на наших глазах в безответную даль, заворачивает — вместе с медленным вращением, опрокидыванием всего окоема — и, законно, окажется там, куда мы не гадали заехать, вместе с Гоголем бодрым голосом устремляясь «вперед» и «в дорогу». (Здесь, возможно, срабатывает скрытая пружина и гоголевского «искривленного» стиля и самой натуры его и творческой биографии — с массой поворотов, петляний, загогулин и оборачиваний, где всё наоборот, навыворот, не так, как надо, так что, может быть, правильней следить за его развитием, начиная с эпилога, с могилы, пятясь против движения жизни нашего автора, что авось приведет к основанию ее ближе, вернее — в соответствии с безотчетным ощущением Гоголя как чего-то закругленного, изогнутого, уходящего у нас из-под ног. Ехать не вперед, а назад: назад — к рождению, или, как позволил бы я выразить его миссию в мире: вперед — к истокам!)