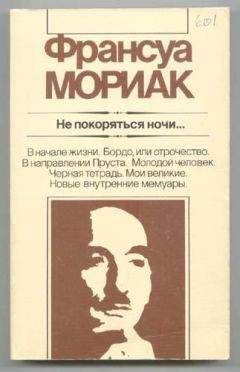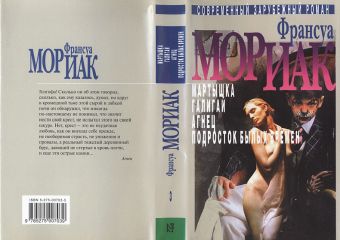На следующий день, в пятницу 25 августа, в день Освобождения, генерал Леклерк занял вокзал Монпарнас. В одиннадцать часов сдались немцы, оборонявшие Военную школу. Вскоре выбросили белый флаг и те, что оставались в Люксембургском дворце. За ними настал черед Бурбонского дворца и Министерства иностранных дел. Во второй половине дня капитулировали отель «Мерис» и отель «Континенталь». На площади Согласия рухнула, раздавив немецкий автомобиль, одна из колонн отеля «Крийон». Но и здесь немцы в основном сдаются; наконец, один полицейский срывает немецкий флаг — флаг, на который мы четыре года подряд не могли смотреть без слез, — и швыряет его в толпу, где его тут же рвут в клочья; и вот уже трехцветное французское знамя снова — теперь уже навсегда — полощется в небе над площадью Согласия. Париж победил!
Тем временем начался штурм отеля «Мажестик» — там еще оставались фашистские солдаты, покинутые своими командирами. Они сопротивлялись недолго. В соседнем здании генерал фон Хольтиц подписал акт о капитуляции.
Толпа заполонила улицы, окружила танки, грузовики, украшенные флагами автомобили. Через несколько часов в городе не осталось ни одной немецкой надписи, ни одного заграждения — никаких следов оккупантов. В 19 часов 15 минут генерал де Голль, прибывший из Рамбуйе, вошел в ратушу.
Признаемся, что в эти восемьдесят дней мы показали себя маловерами. Вместо того чтобы тревожиться по поводу волнений в некоторых районах, надо было радоваться, что в стране с разрушенными коммуникациями и средствами связи, только что вышедшей из войны, не случилось худших беспорядков. То же самое касается расправы с коллаборационистами, где не обошлось без ошибок. Один мой швейцарский друг, которого я спросил, не шокирует ли это его соотечественников, ответил мне, что, напротив, они были готовы к тому, что столь резкий переход от оккупации к свободе будет сопровождаться в потрясенном Париже кровавой резней, и ничуть не сомневались, что всеобщим правилом станет немедленное сведение счетов. Иначе говоря, если что-то и удивило их, так это сравнительное добродушие народа.
За эти восемьдесят дней очень многое сделано и в области правосудия. Четвертая республика стоит перед дилеммой: с одной стороны, нужно покарать преступников, отделить зерна от плевел, с другой — восстановить общественные свободы, и прежде всего свободу мнений. Рано или поздно интересы Франции потребуют возвращения к политике Генриха IV в 1593 году * или Людовика XVIII в 1814 году *. На это тоже требуется время... и воображение. Мы принадлежим к тем, кто полагает, что бороться против пятой колонны нужно не только с помощью автоматов. По всей Франции бродят мальчишки, подростки — жертвы Дарнана и Анрио, отчаявшиеся, способные на любое безумство. Среди них много таких, которые не убивали и не предавали своих братьев, — разве нельзя отправить их в одну из наших колоний, где они служили бы в особом полку или легионе под командой испытанных патриотов? Мы убеждены, что выход нужно искать именно в этом направлении. Мы не всегда выступаем против смертной казни, но когда речь идет о молодежи, мы всегда выступаем против казни отчаянием.
Да, в конце концов солнце взойдет над вновь сплотившимися французами. Вот еще один добрый знак — политическая жизнь во Франции начинает входить в свои берега. Трудно переоценить важность недавнего съезда Французской социалистической партии, которая показала себя единой, сильной и современно мыслящей. Создание влиятельной правительственной партии, социальную программу которой разделяет вся нация, — событие, заслуживающее пристального внимания. «Мы должны принять в наши ряды тех верующих, которые за годы Сопротивления поняли, что они — на нашей стороне», — сказал Даниель Мейер. Мы убеждены, что руководители нашей церкви осознали значение этих слов. Кто из французов займется теперь возрождением консервативной — консервативной, но не реакционной — партии и решится заменить недавний лозунг «политика прежде всего» лозунгом «общество прежде всего», создав тем самым почву для деятельного сотрудничества партий, которые стоят на противоположных позициях?
Если по прошествии всего-навсего восьмидесяти дней мы уже задаемся такими вопросами, это добрый знак.
Дадим же себе сегодня, после лучезарного праздника 11 ноября, сегодня, когда Отечество наше вновь заняло свое место среди победоносных наций, клятву никогда не терять надежды.
За исключением трех статей, опубликованных в еженедельнике «Карфур» и журнале «Франция — СССР», все, что я сюда помещаю, было написано для «Фигаро» после Освобождения в период с августа по начало марта. Я счел своим долгом ничего здесь не менять. Даже если первые из этих страниц и выдают волнение, вполне простительное после пяти лет молчания и страха, каждый непредубежденный человек согласится, что моя позиция за прошедшие полгода почти не изменилась. Напрасно искать в этой подборке страницы под названием «У французской нации есть душа», которые появились в первом номере вышедшего из подполья журнала «Летр Франсез». Это не означает, однако, что я отрекаюсь хотя бы от одного сказанного там слова: просто статья слишком резко выделяется своим тоном, поскольку основная ее часть написана в подполье, когда я скрывался, а первую скрипку в Виши играл Моррас. В то время у меня не было причин сдерживать свою горячность: я собирался опубликовать статью нелегально, на свой страх и риск. Мои друзья, знавшие о ней, попросили, чтобы я приберег ее до часа, когда «Летр Франсез» выйдет из подполья, — так я и поступил. Я действительно не отрекаюсь от нее: она в скором времени появится вслед за « Черной тетрадью» в томе, который готовится к выпуску в «Полночном издательстве».
Предлагаемые статьи в момент их публикации были блестящи. Но я не люблю мертвых бабочек. Статьи эти ценны лишь как документ: в них отразилась смутная и тревожная пора, когда Франция, став свободной, еще не привыкла к свободе.
Первый из нас
В самую печальную пору нашей жизни надежда Франции была сосредоточена в одном человеке, ее выражал голос этого, и только этого человека. Сколько их было, французов, пришедших разделить его одиночество, по-своему понявших, что значит пожертвовать собой для Франции?
Мертвые или живые, эти безвестные первые труженики навсегда будут воплощены для нас в вожде, который позвал их и за которым, бросив все, они последовали, пока другие держали нос по ветру, искали для себя выгоды, предавали.
Именно к нему, именно к ним Франция, освобожденная от плена, обращает свой первый зов; именно к нему, именно к ним она, отвязанная от позорного столба, протягивает искалеченные руки.
Она помнит: в Виши этого человека заочно приговорили к смерти. Ему, молодому вождю Франции, который первым в Европе понял и определил условия новой войны, посылал проклятия престарелый маршал, вот уже двадцать лет как ставший слепцом. Продажная французская пресса на службе у палачей осыпала его оскорблениями и насмешками. Но мы в эти лютые зимы каждый вечер сидели, прижавшись ухом к радиоприемнику, а потолок над нашими головами сотрясался от шагов немецкого офицера. Мы слушали, стиснув кулаки и не сдерживая слез. Мы бежали за домочадцами, которых не было у приемника: «Будет говорить генерал де Голль... Он говорит!» В самый апогей нацистского триумфа этот пророческий голос предсказал все, что свершается сейчас на наших глазах.
Благодаря ему, благодаря тем, кто первыми разделили его одиночество, мы сохранили мужество. В то время мы не осмеливались даже взглядом измерить высоту Голгофы, на которую нам предстояло взойти, и не могли подумать, что этот француз приобретет право на нашу безграничную признательность и на многое другое. Но видя год за годом, как он защищает суверенитет униженной и порабощенной Франции, мы полюбили его за достоинство, терпеливое и никогда ему не изменявшее! Мы были вместе с ним во время переговоров, об изнурительности которых мы догадывались, а порой представляли себе его страдания и разделяли их!
Давайте же поймем главное: нужно с первого дня избежать двусмыслицы. В 1830 и в 1850 годах, когда правящие классы Франции бросились на колени перед Луи-Филиппом и принцем-президентом *, они поддались чувствам, без сомнения объяснимым, но кажущимся нам сегодня низкими. Но следует ли напоминать, что ни один из нас, ни один из участников Сопротивления не считал де Голля солдафоном-деспотом, который силой станет держать людей в повиновении и с мечом в руке защищать привилегии немногих?
Напротив, он остается в наших глазах таким, каким был с первого дня: воином, неожиданно поднявшимся на защиту преданной свободы. В те дни вишистские моррасовцы, трепеща от ликования, смогли наконец опробовать свою систему на истерзанной Франции. И тогда этот француз, по загадочному предопределению унаследовавший имя древней Галлии, стер плевки с лица оскорбленной Республики. И мы, с юных дней, честно говоря, уже почти не верившие в нее, вновь узнали Республику наших прадедов, поверили в ее воскресение из мертвых.