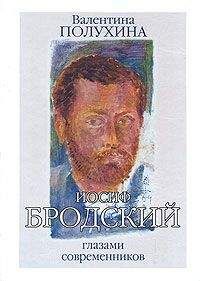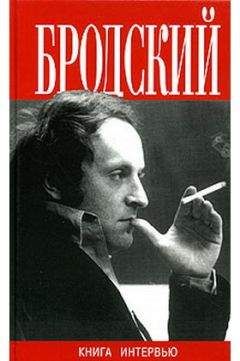В своих стихах, подобных завещанью,
Отчизну он сравнил со Святовидом.
и у Бродского в "Литовском дивертисменте":
...И статуя певца,
отечество сравнившего с подругой
[К:102/I:266].
Я этого не знаю.
Критики Бродского, да и он сам, отмечают эмоциональную нейтральность его стихов, столь нехарактерную, почти неприемлемую для русской традиции, Что заставляет Бродского выталкивать эмоции из стихотворения? Или, говоря вашими стихами, "от сильных чувств поэзия смолкает"[439]?
Я думаю, что в поэзии всегда много хитростей. В нашем столетии хочется кричать, потому что слишком много страшных вещей происходило и происходит. Но спокойный тон, конечно, предпочтительней. У меня есть строчка "I haven't learned yet to speak as I should, calmly" ("Я еще не научился говорить так, как надо, спокойно")[440]. Бродский, вероятно, научился говорить спокойно.
Как известно, русская литература всегда обсуждала философские, религиозные и этические проблемы. В какой степени Бродский остается верен этой традиции?
Я уже писал об этом. Он мне близок еще и потому, что мы очень чтим одного философа — Льва Шестова[441]. Мне очень нравится то, что Шестов сказал о русской традиции социального оптимизма у Толстого, о вере в то, что по мере прогресса человек станет лучше[442]. И Шестов, и Бродский выступают против этой традиции.
Вы определили одну из волнующих вас проблем как "зло мира, боль, муки живых существ как аргумент против Бога"[443]. Шестов написал на эту тему целую книгу, "На весах Иова". Можно ли отыскать у вас с ним общую стратегию защиты веры в наш век безверия?
Думаю, что да. Шестов был врагом стоицизма. Он говорил, что вся философия Запада и христианство согласились, что мир так устроен, и ничего не поделаешь, надо улыбаться. Он говорил: "А я не признаю этого". У него была идея полной свободы Бога. Говорят, что Бог есть любовь. Но кто это знает? Может быть, Бог вовсе не любовь. Он делает, что хочет, у Него нет никаких пределов. И в этом смысле у Шестова есть крик Иова. Конечно, Шестов — это писатель Ветхого Завета. Даже его книга "Афины и Иерусалим" — это сопротивление.
А ваша стратегия? Бродский назвал вас Иовом, кричащим не о личной трагедии, а о трагедии самого существования[444].
Может быть, у меня немножко другая стратегия, потому что я испытал влияние другого философа нашего столетия — Симоны Вайль. Она верит, что Бог есть любовь, но Бог находится на большом расстоянии от мира, и Бог оставил весь мир князю этого мира и инертной материи. Таким образом, есть две стратегии, и обе исходят из очень острого ощущения присутствия зла в этом мире.
Клеменс Поженцкий считает, что "главная тема творчества Бродского — зло. Поскольку он писатель глубоко религиозный и исторические события воспринимает в метафизических категориях, он, в согласии с традицией православия, рассматривает зло как отсутствие, пустоту, некий минус или нуль"[445]. Как вам видится суть творчества Бродского?
Бродский принадлежит к тем поэтам, которым на удивление удалось сохранить традицию христианства и классическую традицию. Может быть, чтобы писать стихи в XX веке, надо верить в Бога. Западная поэзия, начиная с Малларме, потеряла эту веру, это — самостоятельное искусство. Я думаю, что Бродский, да и я тоже, мы сохраняем священное приятие мира.
В свое время вы жаловались, что не нашли у Пастернака философской альтернативы официальной советской доктрине[446]. Какую альтернативу предлагаете вы?
В этом была сила Пастернака, потому что иначе бы он погиб. Я думаю, что моя поэзия в последние годы становится более и более метафизической. Но, знаете, давать ответ — не дело поэта. Какая программа, например, у Бродского в стихах "Бабочка" [Ч:32-38/II:294-98] или "Муха" [У: 163-72/III:99-107]?
В них нет программы, но в них содержатся мысли о волнующих его проблемах: вере и поэзии, языке и времени, о жизни и ничто. Говоря вашими словами, в "Бабочке" Бродский "воссоздал, переосмыслил и обогатил английскую метафизическую школу XVII века". Вы также определили одну из его магистральных тем как "человек против пространства и времени"[447]. Согласитесь, эта тема стара, как мир. Обновил ли ее Бродский?
Трудно ответить на этот вопрос. Я думаю, что поэзия принадлежит традиции литературы данного языка. Думаю, что вы лучше меня знаете, что такое Бродский в традиции русской литературы.
Кажется, до него никто не был так поглощен категорией времени.
Я должен вам сказать, что некоторое время назад вышла книга стихов Бродского по-польски с моим предисловием[448]. У нас есть блестящий переводчик — профессор Баранчак. Я завидую Бродскому, потому что его изобретательность в области рифм непревзойденная. Мне очень трудно писать в рифму, а Баранчак переводит Бродского на польский, сохраняя его систему рифм.
Несмотря на сопротивление польского языка? И это не банальные рифмы?
Нет, нет. Это просто удивительно. И эта книга Бродского на польском языке очень странная, потому что она расходится с традицией польской поэзии. Нечто аналогичное произошло и с моим "Поэтическим трактатом", я говорил об этом с Горбаневской, в русском переводе он не совпадает с русской поэтической традицией.
Мне хотелось бы вернуться к философской стороне вашей поэзии и поэзии Бродского. О своих стихах вы говорите, что они похожи на "интеллектуальный балет"[449], а стихотворения Бродского, написанные в форме путешествий, вы назвали "философским дневником в стихах"[450], Насколько успешно Бродский соединяет философию и поэзию? Не рвется ли поэтическая ткань от тех философских абстракций, которыми иногда изобилуют стихи Бродского?
Я думаю, что Бродский делает это успешнее многих западных поэтов. Я сам очень старался двигаться против распространенных течений в современной западной поэзии. И в этом смысле мою поэзию нельзя назвать западной, она скорее ей противостоит. И здесь мы с Бродским соратники.
Вы как бы строите мост между славянской и западной поэтическими традициями?
Да. Западная поэзия двигается к субъективизму, чреватому серьезными последствиями. В русской традиции, конечно, есть традиция автобиографической поэзии, это старая традиция. И у Бродского много автобиографических стихов, но он стремится к объективности, возьмите все его описания городов, исторических ситуаций, например, в "Колыбельной Трескового Мыса" [4:97-110/11:355-65] весьма ощутимо его усилие объективации двух империй. И это сделано в противовес основным западным тенденциям.
Бродский, назвав Кавафиса "духовным экстремистом" [L:67/IV:176], заявил однажды, что и "Христа недостаточно, и Фрейда, и Маркса, и экзистенциалистов, и Будды мало"[451]. Не свойственен ли самому Бродскому духовный и интеллектуальный экстремизм?
Может быть, может быть. Это очень русская черта.
Согласны ли вы с Бродским, который считает, что "поэзия гарантирует гораздо большее чувство беспредельного, чем любая вера"?[452]
Нет, с этим положением я не согласен. Я не приписываю поэзии такой важной функции, какую ей приписывает Бродский.
Язык и время — еще одна дихотомия в поэтическом мире Бродского. Он как-то сказал: "Если существует божественное, это прежде всего язык"[453]. Почему он возносит язык на такие метафизические высоты?
В наше время язык выдвинут западными профессорами во главу угла. Они отметают все и оставляют только язык, который, якобы, говорит сам за себя и за нас. Это все-таки нигилизм, онтологический нигилизм. Любые поиски истины для них — метафизическая глупость. Для деконструктивистов и прагматиков язык — мастер, язык — все, и все — язык. Но у Бродского нечто иное.
Да, хотя Бродский постоянно утверждает, что писатель — слуга языка и орудие языка[454], он при этом неустанно подчеркивает божественную природу языка: "Язык, который нам дан, он таков, что мы оказываемся в положении детей, получивших дар. Дар, как правило, всегда меньше Дарителя, и это указывает нам на природу языка"[455].
Бродский совсем не похож на тех профессоров и поэтов, для которых язык — это автономная сфера. У него нет лингвистических экспериментов ради экспериментов. Для него язык — конфронтация с миром.
...и с временем. Не потому ли он был так потрясен строчками Одена: "Время... / преклоняется перед языком и прощает его служителей" [L:362-63][456]? У вас есть сходная мысль: