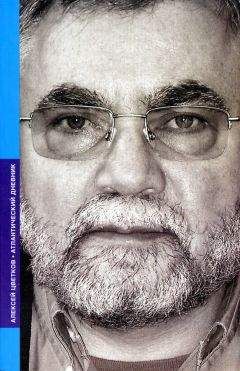Когда, в декабре 2001 года, [глава компании Vivendi] Жан-Мари Месье сказал, что «французская культурная исключительность мертва», это вызвало перепуганные протесты, но он вовсе не пошел достаточно далеко. Он мог бы добавить: в действительности французская культурная исключительность, слава Богу, никогда не существовала. А если бы это было не так, то умерла бы сама французская культура. Представим себе, что французские короли XVI века, вместо того чтобы пригласить к своему двору итальянских художников, сказали бы себе: «Это господство итальянской живописи невыносимо. Мы не допустим в страну этих художников и их картины». Результатом подобного кастрирующего демарша было бы предотвращение обновления французского искусства. И еще: с 1880 по 1914 год в американских музеях и домах частных коллекционеров было больше работ импрессионистов, чем во Франции, и, несмотря на это – или благодаря этому, – американское искусство впоследствии сумело отыскать собственные истоки и, в свою очередь, повлиять на французское.
Надо сказать, что ссылка на Жана-Мари Месье в свете позднейших событий приобрела несколько комический характер. Встав во главе компании, ведавшей преимущественно водными ресурсами, Месье принялся скупать предприятия американского шоу-бизнеса и привел фирму на грань банкротства. С тех пор акционеры компании выставили его вон, а большинство культурных приобретений распродано. Тем не менее тезис о крахе французской культурной исключительности остается в силе.
К примеру с живописью, приведенному Ревелем, можно добавить и музыку. Одно время в музыкальной жизни Франции тоже доминировала Италия, культурная сверхдержава того времени. Замечательно, что один из главных символов этого итальянского засилья, Жан-Батист Люлли, был в Париже одновременно и придворным композитором, и придворным поваром. Но это не помешало, а скорее помогло местным талантам Марку-Антуану Шарпантье, Марену Марэ и Франсуа Куперену создать прекрасную национальную школу музыки.
Сегодняшняя официальная Франция, мишень критики Ревеля и многих других писателей, превратилась в бастион сопротивления заморским культурным веяниям. В первую очередь это видно на примере киноиндустрии, самой денежной культурной отрасли. Франция гораздо ревностнее стоит на страже своего национального кинематографа, чем другие европейские страны, хотя и они тоже не держат семафор открытым. Значительную долю бюджета французского кино составляют государственные субсидии, а это, в свою очередь, освобождает режиссеров от необходимости уделять чрезмерное внимание рыночной конъюнктуре. Естественно спросить, откуда берутся деньги? Прокат зарубежных фильмов, среди которых преобладают американские, облагается особым налогом в пользу отечественной культуры. В результате получаем порочный круг, а вернее, спираль: чем упорнее французские киномастера игнорируют вкусы зрителя, тем чаще он посещает американские фильмы – в результате субсидии возрастают, и возможности пренебрегать вкусами толпы становятся шире. Интересно, что французский фильм, завоевавший-таки мировую популярность в последние годы, – это не какое-нибудь изощренное создание «арт-хауса», а милая и безобидная комедия – «Амели с Монмартра».
В литературе, надо сказать, дело обстоит несколько лучше. Правда, за исключением Мишеля Уэльбека трудно назвать серьезного французского писателя, который пользовался бы сегодня мировой известностью. С другой стороны, недавно мне попался на глаза репортаж агентства France-Presse о том, что серьезная литература не только не умерла, как давно пророчили в той же Франции, а вполне жива – беда в том, что она живее всего в англоязычных странах, в первую очередь в Соединенных Штатах Америки. По счастью, книжный рынок не обложен тарифной блокадой, и поэтому французские читатели Дона Делилло, Филипа Рота и Сола Беллоу сделали это открытие задолго до France-Presse.
Во Франции, быть может, ярче, чем в других европейских странах, виден парадокс современной идеологии – странное совпадение интересов бюрократической верхушки, истеблишмента, и тех слоев, откуда традиционно исходила контркультура. Жак Бове, всемирно известный сокрушитель «Макдоналдса», любит в целях маскировки выдавать себя за французского фермера, но на самом деле он – профессиональный активист и лидер движения антиглобалистов. Подобно правительству своей страны, он видит в глобализации почти безоговорочное зло. В его понимании, как и в понимании его правительства, глобализация означает прежде всего стрижку под американскую гребенку и ликвидацию всех замечательных национальных особенностей.
Популярность движения антиглобализма в среде молодежи, в основном молодежи зажиточных стран, не очень удивительна именно в силу его антиамериканской направленности – антиамериканизм сегодня практически заменил всю рассыпавшуюся левую идеологию. Но от лидеров страны, весьма развитой в культурном и экономическом отношении, хочется ожидать большей ясности ума или хотя бы ясности зрения. Все эти рассуждения о подавлении великих национальных культур рассыпаются в прах при столкновении с обыденным опытом каждого из нас. Приведу еще одну цитату из статьи Жана-Франсуа Ревеля:
...
Смешение культур, где преимущество принадлежит сначала одной, а затем другой, – всегда, и в античности, и в Средневековье, и в современном мире – приводило не к единообразию, а к многообразию. Именно это происходит и сегодня, как отмечает шведский эссеист Юхан Норберг: «Многие опасаются, что миру грозит „макдоналдизация“ и гомогенизация – мы будем в конечном счете носить одну и ту же одежду, смотреть одни и те же фильмы. Но это – неверное описание процесса глобализации. Пройдитесь по Стокгольму и поглядите вокруг. Конечно же, вы найдете гамбургеры и кока-колу, но вы можете также найти и выбрать шашлык, суси, тексмекс, пекинскую утку, французские сыры, таиландский суп». И автор напоминает то, о чем часто забывают: американская культура – это не только песни Мадонны и боевики со Шварценеггером, сюда входят 1700 симфонических оркестров, опера, которую ежегодно посещают 7,5 миллиона зрителей, и музеи с полумиллиардом посетителей в год. Почти все американские музеи, вход в которые довольно часто бесплатный, обязаны своим существованием и финансированием частным спонсорам.
Этот аргумент можно сделать еще более острым и убедительным, если на место Стокгольма подставить другой город, самый глобализованный в мире, – Нью-Йорк. Смехотворно было бы утверждать, что тамошние жители поголовно носят джинсы, смотрят вестерны и закусывают в «Макдоналдсах». Здесь можно попробовать любую кухню мира, нередко в лучших ее образцах. Здесь можно посетить одну из крупнейших в мире библиотек, с книгами на всех языках – бесплатную и с открытым доступом. Здесь расположен лучший в мире оперный театр, ведущие музеи и концертные залы. Здесь можно ознакомиться с лучшими достижениями самых разных культур мира – на фестивалях, концертах и выставках, ежедневный выбор которых огромен. И наконец, здесь продолжают жить сами эти культуры, в этнических кварталах, где люди селятся и воссоздают знакомый жизненный уклад добровольно, а не потому, что их понуждают к этому Жак Ширак или Жак Бове.
Впрочем, лицемерность их позиции в любом случае не вызывает сомнений, в подтверждение чего можно привести множество фактов. Так, например, на венецианских бьеннале большинство главных премий с 1948 по 1962 год получали французы, и ни у кого это не вызывало возмущения. Но когда в 1964 году лауреатом стал американский художник Роберт Раушенберг, с французской стороны немедленно понеслись обвинения в сговоре и культурном империализме.
По мнению Ревеля, культурная глобализация не только не является злом, как утверждают Ширак, Бове и их разномастные единомышленники, но она представляет собой фундаментальное и незаменимое благо. Страна, которая это благо отвергнет, неминуемо обречена на упадок.
Здесь пришло время отвлечься от Франции и обратить внимание на Россию – она его, надо сказать, заслуживает в первую очередь. На мой взгляд, выигрышу России от культурной глобализации вообще трудно подыскать параллель в мировой истории.
Но есть и другие разительные параллели, по крайней мере для нас, живущих в начале XXI века. Подобно саудовским блюстителям нравственности, российские законодатели наложили табу на злосчастную куклу Барби, хотя и не в столь резких выражениях. Подобно французским культурным бюрократам, они повели крестовый поход за чистоту языка – при том, что, в отличие от своих французских коллег, выпускников элитарных высших школ, сами они с трудом изъясняются на этом языке, то и дело прибегая к помощи площадной лексики и просто пальцев. В любом случае, борьба французских шовинистов с английским лингвистическим вторжением представляет собой один из самых комичных и глупых эпизодов в истории культурного протекционизма, а что уж тогда говорить об имитаторах?