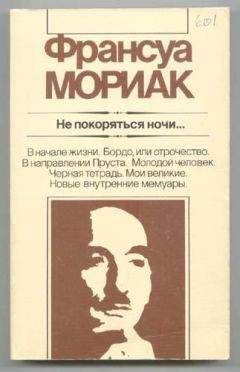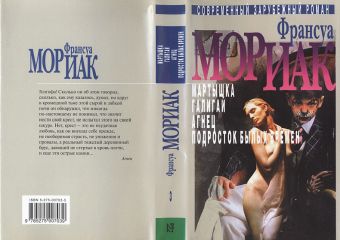Дорогой друг, к тому, что я только что говорил, это не имеет прямого отношения, но у меня почти нет привычки к разговорной стороне книг, и причина здесь, полагаю, в моей неподвижности. Но, слыша Ваше произношение, Ваш изумленный, негодующий голос, я благословляю Вас за то, что Вы оживили подробности вечера, когда я имел счастье узнать Вас (я хочу сказать, вечера, когда Вы так любезно согласились заглянуть в комнатку, которую я делил с моим единственным X., теперь уже уехавшим в далекую страну...). Поверьте, я постоянно вспоминаю Ваш взгляд, голос, все, что Вы говорили, Ваше письмо, полученное на следующий день. Но все это становится и достовернее, и живее, когда в напечатанных словах я узнаю Вашу особую, энергичную и очаровательную манеру выговаривать их. Приведенная Вами великолепная цитата из Шатобриана оказалась крайне кстати и помогла мне понять, почему я вдруг так привязываюсь к иным созвучиям на некоторых страницах. «Порвать с реальными вещами — пустяк. Но вот с воспоминаниями...»
Дорогой друг, я не порвал с воспоминаниями о Вас, и, может быть, мне будет суждено увидеть Вас не мысленно, а воочию. Я еще не оправился от тяжелейшей болезни (по-моему, я Вам писал, что не мог даже вычитать корректуру и что в «Нувель ревю Франсез» любезно согласились печатать мой последний том со старого черновика, и опечаток в этой книге гораздо меньше, чем в остальных, поскольку, как Вы утверждаете, я не умею читать корректуру); поэтому я не могу ни отвечать на письма, ни переутомляться, расспрашивая Вас о смысле той или иной страницы. Мы, должно быть, поразительно разные, в Вас я не вижу своего отражения, и это мне безумно нравится. Сейчас, когда все так одинаково, Ваша книга необыкновенно своеобразна! Я не умею держать корректуру, и, однако, Вы должны были бы послать мне свою. Я предложил бы Вам устранить кое-какие крохотные недостатки. Если Вы видитесь с Франсисом Жаммом, скажите ему, что только тяжелая болезнь помешала мне поблагодарить его за «Святого Иосифа». И я вдруг вспомнил, что, когда в семнадцать лет (случай, думаю, уникальный) проходил в Орлеане военную службу, в полку у нас был исключительно любезный и учтивый лейтенант, маленький, худой, чернявый, с очень красивым лицом, расхаживавший по орлеанским улицам с толстенным молитвенником под мышкой. Тогда для этого нужна была большая смелость. Мне сказали, что в этом году он умер. Люди, сообщившие мне это, плакали. И вот я подумал, не родственник ли он Франсису Жамму. Походатайствуйте перед этим великим поэтом, пусть он порекомендует меня своему святому покровителю, чтобы тот послал мне легкую смерть, хотя я чувствую в себе достаточно мужества принять и самую мучительную.
Всецело Ваш
Марсель Пруст.
P. S. Я начал изредка вставать и, несмотря на скверные результаты недавнего моего опыта, в ближайшие дни стану выходить. Может быть, удастся воспользоваться этим и повидаться. Досадно, что мне слишком поздно становится известно, когда можно встать, и в это время я не буду знать, где искать Вас. Я мысленно увидел Франсиса Жамма, представляющегося Академии. Мне передали высказывание по этому поводу Вашего знакомого Артюра Мейера, — высказывание, потрясшее меня теперь уже позабытой глупостью многих светских людей. Мне тут же привиделся главный редактор «Голуа» с его похожим на розовую сахарную голову черепом великого жреца из «Прекрасной Елены» * и завиточками на затылке, как сказали бы Гонкуры, словно у болонки, вещающий гнусавым голосом мрачные пророчества. Впрочем, не знаю, почему я высмеиваю его; в один из вечеров я германтизировался *, и мои самые желанные гости показались мне слегка глуповатыми. Никак не могу решиться, дорогой друг, расстаться с Вами».
И вот последнее письмо, которое я получил от Марселя Пруста:
«Дорогой друг, Вы, наверно, уже догадались, что после Вашего визита я был серьезно болен. Иначе разве бы я смог, невзирая на Вашу просьбу не затруднять себя ответами, не написать Вам, не дожидаясь даже Вашего письма.
Эту записочку я посылаю Вам в момент, когда все еще продолжаю страдать. Но я не хочу, чтобы длительное молчание заставило Вас подумать, будто я вознамерился вычеркнуть Вас из памяти. Когда мы с Вами снова увидимся (если увидимся), умоляю, будьте таким, какой Вы, по Вашим словам, бываете обычно. Я не могу себе представить, что восхищение, которое, как Вы безмерно любезно уверяете меня, Вы испытываете ко мне, может что-то изменить, поскольку, как Вы знаете, я питаю к Вам не меньшее восхищение. Следовательно, они взаимно нейтрализуются, так что мы должны встречаться как два веселых, любящих жизнь человека (пусть даже один жив только наполовину), которые, находясь на расстоянии, поодиночке, полны самых глубоких мыслей, но, сойдясь вместе, развлекаются, подобно всем добрым людям, не являющимся писателями и не испытывающим обоюдного восхищения, хотя развлечения эти вовсе не исключают бесед о литературе.
Я безумно устал и потому таким педантским тоном, что даже самому страшно, толкую обо всем этом, как будто Вам не известно столь же Хорошо, как мне, и даже лучше, чем мне, что составляет очарование искренней и простой дружбы.
Всем сердцем Ваш
Марсель Пруст»
Здесь я должен рассказать об одном эпизоде, предшествовавшем полуночному ужину у постели Марселя Пруста, о котором он упоминал в предпоследнем письме. Накануне мне по телефону был задан вопрос: «Господин Марсель Пруст просит узнать, желательно ли господину Франсуа Мориаку во время трапезы послушать квартет Капе или он предпочитает, чтобы на ужине присутствовали граф и графиня де X.?»
Сейчас я, не задумываясь, загнал бы милейшего мистификатора в его же ловушку и потребовал бы квартет Капе, но тогда простодушно рассыпался в благодарностях и ответил, что меня не интересует ничье присутствие, кроме самого г-на Марселя Пруста. Факт незначительный, но он проливает дополнительный свет на кое-какие черты характера этого странного человека, которые проявляются и в его письмах ко мне. Даже если бы мы ничего не знали о Марселе Прусте, писем этих было бы достаточно, чтобы представить себе личность, похожую на большинство персонажей, населяющих его роман. Взять, к примеру, утопленную в потоке любезностей его интерпретацию моей жалобы: «Ни единой статьи о моей книге...», которую он мгновенно воспринял как скрытую просьбу, и море слов, затраченных, чтобы отказать в том, о чем я не просил, или брошенную мне приманку в виде сплетни насчет Г., или намек на моих друзей, которые вынудят меня выбирать между им и ними; от всего этого, несмотря на искреннюю симпатию и трогательную обходительность, явственно тянет смрадноватым душком того общества, которое в его изображении предстает форменным адом. В сокровенных глубинах этого человека, пораженного болезнью на стыке духа и плоти, долгие годы омывался, словно в купели, чувственный мир, перед которым он был беззащитен, мир, глубоко утонувший в нем, но под напором памяти выходивший на поверхность. Все его персонажи были как бы погружены в эту купель и изменялись в результате психологического омовения.
Мое восхищение Марселем Прустом и через двадцать лет после его смерти остается столь же пылким, но в нем все-таки появились кое-какие нюансы. Теперь я уже больше не уверен, что его произведение в целом знаменует торжество определенного метода. И вот что меня поражает: вершины этого грандиозного творения вырастают из глубокого прошлого самого автора. Но лишь ребенок из «В направлении к Свану» и взрослые, за которыми он наблюдает пока еще невинным взглядом (я имею в виду, в частности, знаменитый эпизод «Любовь Свана»), не поддались порче.
По мере того как обретенное Прустом время уходит все дальше от детства и перемещается в плоскость сексуальной жизни и людей, занятых только ею, безупречный дотоле металл романа мало-помалу начинает ржаветь. Кое-где он еще держится, словно его оберегают священные воспоминания героя о матери и бабушке. В остальных же местах гниль бездеятельной жизни, пусть изумительно чуткой, но лишенной защиты от внешних воздействий и целиком отданной во власть бесчисленных эмоций, осаждает со всех сторон мир, сотворенный романистом, проникает в него, разъедает и уничтожает. В последних томах блекнет даже облик бессмертной служанки Франсуазы. Призрак Альбертины плавает, словно эктоплазма, в удушливом мраке комнаты. Все живые исчезли, существует только несравненное клиническое исследование ревности проклятого существа, не способного на ту любовь, какой Господь щедро благословил мужчину и женщину. Все, бывшее в романе плотью, постепенно поддается гниению и превращается в тлен, но остается костяк — цели и обобщения моралиста, равного которому по проникновенности нет и не было ни в одной литературе.
Короче говоря, я считаю, как и двадцать лет назад, что произведение Пруста возвышается над всей современной литературой. И мне остается с изумлением констатировать, что значение его до сих пор не понято некоторыми критиками. Никому не удастся отнять у Пруста место, которое он занимает рядом с великими европейскими романистами. Тем не менее сейчас, когда ослепление первого знакомства прошло, мы оказываемся гораздо чувствительней к тому, что мир романа загрязнен больным сознанием его создателя, который долго носил этот мир в душе, переплел с собственным временем, перемешал с собственной глубинной грязью и передал ему зародыши ощущаемой в себе заразы.