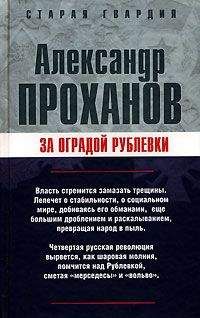Здесь, на Охотном ряду, – низкий поклон советским старикам, явившимся сюда, быть может, на последний в жизни бой. Выиграли войну, распахали целину, построили великий флот, взлетели в космос. Ожидали чуда для своих сыновей и внуков. Были брошены в пучину бед, самая страшная из которых – разрушение Родины. Идут в пикет, увешанные орденами, опираясь на костыли, передавая молодым партийцам «красные заветы», тайну «красного смысла», чтобы она переходила от поколения к поколению и «красная свеча» не погасла.
У думского подъезда – свой фронт, свои знамена и лозунги, свой «театр». Кинули на асфальт синюю тряпку, отобранную в схватке у враждебных профсоюзов. Немного потоптали, немного поплевали, подожгли зажигалкой, покоптили и тут же загасили, – дескать, больно смердит. Члены «неподкупных» отраслевых профсоюзов развернули среди дружественных красных стягов свои производственные эмблемы, полотнища. Колотят о думские ступени пластмассовыми касками, стараясь достучаться до сердца Явлинского, не ведая, что у того вместо сердца облачко дыма из выхлопной трубы натовского транспортера.
Как черт из табакерки, выскочил вездесущий Жириновский. Заорал на пикетчиков, в кого-то плюнул, кого-то дернул за волосы, и в ответ разгневанные женщины погнали его древками транспарантов, улюлюкая, загоняя обратно в Думу. Странный пузырь газа, вспухший в российской политике из таинственных тлетворных болот. Лопнет, оставив маленькую липкую воронку, лужицу слякоти и эмблему ЛДПР в виде лысого чучела сокола.
Множество партий, напоминающих эпидемии гриппа, исчезнут вместе с их экзотическими, как разноцветные жучки, лидерами. Но коммунисты останутся. Если станут подлинным авангардом несдавшегося народа. Если воспримут активные методы борьбы, от которых хрустят кости и начинает звенеть железная арматура баррикад. Если будут учиться у палестинской интифады, у антиглобалистов Америки и Европы, у своих русских великих предшественников. Молодежь может увлечься романтической мечтой о будущем Мировом Восстании, опрокидывающем манхэттенскую башню Нового мирового порядка. Интеллектуалов привлекут дискуссии, в которых вновь зазвучит «левая идея», как революционный протест против протухшего буржуазного мира, унылого конформизма, предательства и бесстыдства. Рабочий придет в партию, если она придет к рабочему, – вернется в цех, в забой, на хлебную ниву.
Пусть разгромлены три русские революции. Четвертая вызревает в недрах оскорбленного, убиваемого народа, «готового на муки, на подвиг, на смертный бой».
Вернадский в самые страшные месяцы фашистского нашествия, когда танки с крестами утюжили Смоленск, Малоярославец, Волоколамск, повторял: «Ноосфера победит». Потому что ноосфера, соединяющая в себе мировое Добро, Справедливость и Красоту, есть магистральное развитие жизни – от вируса к амебе, к рыбе, Гайдару, Ельцину, и дальше – к человеку.
Пикет идет четыре часа. Невыносимое московское пекло. Люди изнемогают. В глазах малиновые пятна. Жажда, усталость. Кому-то из стариков стало плохо. Журналисты, высматривающие своими стеклянными телевизионными глазками все самое лакомое, выхватывающие своими жадными кривыми клювами кусочки сенсаций, – и те исчезают, как утомленные грифы.
Власти, чувствуя ослабление пикета, начинают акцию по выдавливанию. Змейкой бегут солдаты внутренних войск, в камуфляже и касках. Тесней сдвигается ОМОН. Идет милицейская машина с мигалкой. По обе стороны Охотного ряда медленно ползут тупоносые грузовики. Как бульдозеры, сдвигают толпу. Короткие схватки. Крики, визги, наклоненное красное знамя. Народ неохотно уходит с проезжей части к гостинице. Открывается пустое пространство улицы. Едет поливальная машина, рассыпая пышные ворохи воды, сметая сор. И вслед за ней, еще неуверенно, потом все смелей и яростней, устремляется автомобильный поток. «Мерседесы», «вольво», «ауди». Клерки, бизнесмены, разбогатевшие сутенеры, не пойманные киллеры, раскормленные эстрадные певицы, изолгавшиеся политологи, катят по своей Москве. С презрением поглядывают на узенькую красную ленточку пикета, отороченную черной бахромой ОМОНа.
В Думе принят еще один буржуазный закон, в согласии с которым все так же будут падать пассажирские самолеты, норвежские фирмы станут подымать утонувшие подводные лодки, Шойгу продолжит гоголем гулять по горящей, замерзающей, затопляемой России, в Чечне взорвется очередной фугас, растерзав на части еще одного омоновца. И кремлевские сычи, сидя в золоченых кабинетах, глядя на малахитовые остановившиеся часы русской истории, будут думать, что они навсегда победили.
Но я видел, видел красную ласточку Революции, которая вихрем пронеслась над Охотным рядом, и, радостно сверкнув оперением, скрылась, чтобы снова вернуться!
Если ходишь босиком по зеленой траве, если в глазах твоих голубая бескрайняя даль, если сердце ликует от избытка воли и непомерных, непочатых сил, не заблуждайся. Кто-то смотрит на тебя сквозь тюремный глазок, проточенный в звездном небе. Следит за тобой невидимый Надзиратель, сторожит каждое твое побуждение, учитывает каждый вздох и желание. И душа твоя, помещенная в камеру-одиночку из решетчатых ребер, запечатанная в бренную плоть, со множеством замков и засовов, вдруг затоскует о небывалой свободе, о недостижимой воле, о далекой Родине, откуда ее восхитили. Станет биться о кладку, в которую замурована, стенать о помощи, умолять тюремщиков. Не услышав ответа, упадет без сил на каменный пол, зальется слезами.
Тюрьма, которую мне надлежит осмотреть, – это женский следственный изолятор, расположенный на краю Москвы, в Печатниках, среди складов, железнодорожных депо, проносящихся товарных составов, ревущих на шоссе самосвалов, подле монастыря и столь близко, что кажется – одно продолжает другое. Церковные главы естественно переходят в кирпичные тюремные башни. Церковная ограда соединена с огромным железным забором тюрьмы, на который строители неслучайно наварили тяжелые металлические кресты, сочетающие темницу и келью, храм и карцер, монастырь и тюрьму. Образ Рая, воплощенный в земной жизни золотыми главами, колоколами, дивными фресками, перед которыми молится братия. И образ Ада, с темницами, глухими стенами, за которыми страдают заключенные, распределенные на адовых этажах, по адовым кругам, расплачиваясь за земные прегрешения земными страданиями, предваряющими будущие адские муки.
Ворота тюрьмы, огромные, склепанные из железа, напоминают борт броненосца. С колесами, валами, электрическими моторами, двутаврами, телевизионными камерами, ромбовидным зрачком. В потеках ржавчины, словно окислилась, стала неразличима древняя надпись: «Оставь надежду всяк сюда входящий». Тюремные ворота, как плотина, удерживают страшное давление душ, рвущихся на свободу. Выгибаются изнутри. Сотрясаются от ударов, молений, неутешных взоров, неслышных стенаний. Отделяют пленника от свободного, преступника от законопослушного, грешника от праведника, человека от человека, поколение от поколения, народ от народа, Землю от Мироздания. Такие ворота есть в каждом живущем. В каждом деянии. В каждых мысли и слове. Не дают соединиться в единое, бессмертное, славящее Бога человечество, одухотворенное Красотой и Любовью. Ворота начинают скрежетать, крутятся несмазанные колеса, тяжкая плита медленно отъезжает, открывая глухую кладку двора. Наружу выкатывает автобус, голубой, нарядный, с прозрачной кабиной, взятой в легкие стальные решетки, за которыми удобно разместилась вооруженная стража. С глухим, лазурного цвета коробом, где скрыта узница, увозимая на суд. Автобус, легкий, нежно-синий, словно выпорхнувший мотылек под музыку Моцарта, вливается в потоки машин. Малая часть тюрьмы отрывается от материка, погружается в московские улицы. Смотрю вслед, молясь за неведомую душу. Пусть будут к ней милосердны и справедливы судьи. Пусть этот суд, земное подобье Суда Небесного, отпустит ей вины человеческие.
В тесной глубине входной башни, над которой вьется стальная лоза зубчатой спирали Бруно, у зарешеченных окон, толпятся родные узниц. Печальные мужчины – отцы и мужья подследственных. Огорченные, с запавшими глазами женщины – матери и сестры заключенных. Ребятишки, растерянные, бестолковые, – дети, отлученные от арестованных матерей. У всех одно и то же выражение лица, словно к каждому приложили трафарет, подкрасили рты и морщины, подогнали глазницы и брови под одинаковую маску печали. Выстраиваются в очередь к окну передач, заполняют какие-то бланки, о чем-то друг друга выспрашивают, рассказывают похожие одна на другую истории, – про затянувшийся суд, про бессердечных следователей, про бездеятельных адвокатов, про несправедливость, про несчастную случайность, погубившую их дочерей и жен. В таких же очередях, с такими же кошелками стояла моя родня, когда в Бутырках сидели тетки, дядья, а потом в уральские лагеря, в красноярскую ссылку летели из нашего дома письма, полные любви, сострадания, надежды на встречу. Ответом было молчание. Бабушка доставала из фамильного сундука с музыкальным замком свадебные бело-голубые скатерти, резала их на платки, продавала на рынке. На вырученные деньги, на проданные серебряные ложки покупала любимым узникам продукты, теплые вещи. Отсылала за Урал. Спасала от лагерного мора, от тоски бессрочных поселений. Не чурайся, брат, этой очереди к зарешеченному окну, за которым суровая мужеподобная женщина в военной форме принимает кульки передач. Ты встанешь в нее когда-нибудь. Или прежде уже стоял. Или кто-то, кого ты любишь и помнишь, простаивал ее день за днем, год за годом. Посмотрись ненароком в домашнее зеркало – и к твоему лицу приложили фанерный трафарет, обвели темными кругами глаза, опустили уголки иссохших губ, капнули в зрачки чернильную дрожащую боль.