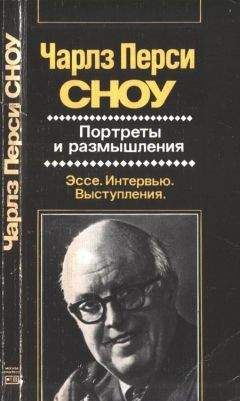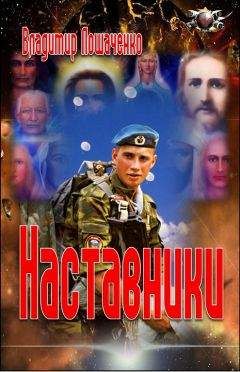О величии души{ˇ}
Около трехсот лет тому назад один профессор математики в Кембриджском университете совершил весьма необычный поступок. Он решил, что его ученик — куда более сильный математик, нежели он сам, и во всех отношениях может превзойти его как педагог. Не удовлетворившись этим актом самокритики, профессор вскоре отказался от руководства кафедрой, потребовав, чтобы ученик был немедленно назначен его преемником. С точки зрения истории никто не может утверждать, что профессор совершил ошибку, хотя звали его Барроу{404} и в XVII веке он считался очень хорошим математиком. Но учеником его был Исаак Ньютон.
Это один из любимейших моих академических анекдотов. Но, к сожалению, я не умею действовать так же стремительно, как д-р Барроу. И все же приятно представить себе, как пошли бы у нас дела, будь мы все похожи на него. Политики, академики, администраторы, художники, бизнесмены — все внимательно присматриваются, видят более достойного и поступают, как Барроу: «Ваше место здесь, мой дорогой, а мое пониже!»
И в самом деле, если бы все мы осмотрелись, сравнили себя с другими и, как говорят экзистенциалисты, поступили «в духе внутренней свободы», то, насколько я могу судить, произошли бы весьма примечательные перемены.
Увы! Этого не случится. Видимо, Барроу так и останется уникумом и, так сказать, крайним примером величия души. Вот почему я так его люблю. Ибо из всех добродетелей я больше всего восхищаюсь великодушием и больше всего мечтаю обладать именно им. Мужество в сочетании с великодушием — вот та единственная добродетель, которую я хотел бы видеть в тех, кого люблю. Разумеется, я не без интереса и с пользой для себя общался с множеством людей, лишенных и мужества, и великодушия. Но мне кажется, я не мог бы чувствовать себя уверенно с кем бы то ни было, у кого нет хоть какой-то доли этих качеств.
Что же я подразумеваю под величием души? Ничего особенно сложного. В значительной мере именно то, что мы имеем в виду, употребляя это слово в обыденном разговоре. Если бы мне пришлось дать определение этого понятия, то я начал бы примерно так. Добродетель эта состоит, во-первых, в умении видеть себя и другого, любого другого человека такими, каковы оба действительно есть. Ибо нет истинной добродетели без ясного видения вещей. Великодушие — это, кроме того, стремление видеть в другом человеке лучшее и попытка выявить в нем это лучшее. Естественно, что попутно надлежит выявить лучшее и в самом себе. Все это просто, но корни добродетели далеко не так просты. К ним я еще вернусь.
Вернусь я и к другому вопросу, который волнует меня, хотя никто не может до конца объяснить, в чем здесь дело. Я хочу сказать, что эта основная добродетель, которая, взятая в любой степени, скрашивает жизнь, а взятая в высшей степени — прославляет ее, грозит, судя по всему, исчезнуть из жизни нашего английского общества, а возможно, и из жизни нашего шотландского общества (впрочем, в этом я не вполне уверен).
Об этом я скажу еще кое-что ниже. Однако было бы бесплодным и нелепым пытаться определить какую-либо добродетель совершенно абстрактно. Добродетели проявляются в действиях. Рассмотрим несколько реальных примеров великодушия. Первым назову шотландца, и не потому, что хочу, кстати, продемонстрировать свой патриотизм, а потому, что, как явствует из всей истории литературы, он был великодушный и добрый человек. Вспомним сэра Вальтера Скотта. Я не считаю его одним из величайших романистов. Но его жизнь, его отношения с другими писателями, его умение переживать и фантастический триумф, и невиданные горести являют собой пример, который должен заставить всех нас краснеть. Если бы часть — пусть небольшая — интеллигенции была хоть в какой-то степени такой великодушной, как Вальтер Скотт, в нашем мире было бы гораздо легче жить. Если бы мне предложили выбрать среди писателей всех стран того, кто является воплощением великодушия, я назвал бы его имя.
Далее я назову Тургенева. Знаменателен для нас сегодня тот факт, что в 1879 году Оксфордский университет присвоил ему почетную степень. Быть может, я позабыл кого-нибудь, но, по-моему, кроме нашего уважаемого сегодняшнего гостя Михаила Александровича Шолохова, с тех пор ни одному русскому писателю — художнику слова ни разу не присуждалась почетная степень британского университета.
Тургенев смолоду пользовался большим литературным успехом, и этот успех сопутствовал ему в течение всей жизни. Он был на десять лет старше Толстого, и, когда они встретились впервые, Тургенев был самым выдающимся писателем России, а Толстой лишь новичком. Довольно скоро это соотношение изменилось. Толстой опубликовал «Войну и мир», когда ему еще не исполнилось сорока лет, и в поразительно короткий срок был признан первым романистом не только России, но и всего мира. Тургенев был не просто отличным писателем, но и человеком острого критического мировосприятия. Он не мог не признать справедливость оценки, данной Толстому, и это было для него нелегко. Тургенев отдал своему искусству больше, чем другие писатели, много больше, нежели Толстой, — и сознание того, что он превзойден, причиняло ему огромные страдания. И все же он остался человеком большого сердца. Умирая, он написал Толстому одно из наиболее волнующих писем, какие вообще известны в мировой литературе, прося его вернуться к литературной деятельности и называя его «великим писателем Русской земли».
Люди могут вести себя великодушно и подло. Порой, в мрачные минуты, начинаешь думать, что человечеством движут лишь два фактора: с одной стороны — зависть, с другой — грубое желание плоти продлить свое существование. Но это не совсем так, нет, это совсем не так. Достаточно было провести с Эйнштейном несколько часов, чтобы убедиться в том, что это совсем не так. Или заглянуть в одну из крупных физических лабораторий мира двадцатых-тридцатых годов, в этот героический век физиков, когда Франк работал в Гёттингене, Бор — в Копенгагене, Эрнест Лоуренс{405} — в Беркли, Резерфорд — в Кембридже. Во всех этих городах можно было увидеть людей, которые вели себя более великодушно, чем это могло бы удаться большинству из нас. Однажды между ученым миром Парижа и Кавендишем возник спор о том, кто первый сделал какое-то второстепенное открытие — Резерфорд или Ланжевен. В спор вмешался Резерфорд и своим громовым голосом заявил: «Если Ланжевен утверждает, что открытие принадлежит ему, значит, это открытие принадлежит Ланжевену!» Дорогой Резерфорд! Были у него свои слабости, но сколько же великого сделал он для многих из нас! Мы обязаны ему уже хотя бы тем, что видели, как работал его творческий гений, как легко все давалось ему, каким это делало его счастливым и великодушным.
Когда люди, подобные этим физикам, объединены друг с другом большим общим замыслом, их слова, брошенные на лету, становятся весьма многозначительными. Для всех этих лабораторий была характерна примерно следующая формула: «Неважно, кого похвалят, лишь бы дело двигалось вперед». Лицемерие, по-вашему? Не говорите так! Я посвятил немало времени описанию поведения людей в подобных ситуациях. Много лет тому назад я был научным работником (не слишком хорошим). Однажды я занимался каким-то исследованием. Работа была весьма тривиальной, чего я не могу сказать о вызванных ею эмоциях. Мне казалось очень существенным: кого же все-таки похвалят? Иной раз лицемерие может содержать или выражать часть истины. Если человек говорит себе, что, мол, теоретически неважно, кому выпадет слава, то какой-то частицей своего «я» он, возможно, и желает, чтобы это было именно так. Не исключено, что в наших увядших и эгоистических сердцах все еще не погасла искорка надежды и великодушия. Не стоит слишком сильно презирать лицемерие. Поймите его сущность, но не презирайте его. Порой оно есть признак того, чем мы хотели бы быть.
Большинство имен, названных мною, принадлежит великодушным людям и широко известно. Теперь мне хочется назвать менее известного деятеля, Г. Г. Харди. Он не очень популярен просто потому, что его область — чистая математика — чужда большинству из нас. В действительности это был великий и в высшей степени великодушный человек, пожалуй, самый великодушный из всех, кого я знал. Я имел счастье быть с ним знакомым в течение последних шестнадцати лет его жизни.
Позвольте рассказать о нем одну историю. Однажды утром, в начале 1913 года, за завтраком в своей университетской квартире Харди заметил на столе большой конверт с индийскими марками. Без особого любопытства он вскрыл этот конверт и, как ожидал, нашел в нем несколько листов бумаги. Это были весьма странные теоремы без всяких доказательств. Кто это: гениальный шарлатан или неизвестный математический гений Индии? Вечером он пошел обсудить этот вопрос со своим сотрудником Дж. И. Литлвудом, которого упорно ставил выше себя. Вскоре оба ученых пришли к единодушному выводу, усмотрев в присланной работе проявление врожденной гениальности.