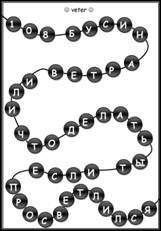Перечитав их письмо, я пришел к выводу, что в универсальный принцип, который я все пытаюсь сформулировать, непременно надо включить их решимость привлечь к сотрудничеству всех и каждого. Туда же должны войти и принципы социальной, экологической и экономической справедливости, которые отстаивают неправительственные организации. А еще обязательно надо включить те пять элементов общности, о которых говорили мне студенты Денверского университета.
Следует учесть и то, с чем согласится любая женщина, — чтобы дети росли в атмосфере защищенности и заботы. Этот принцип, пожалуй, не должен быть нравственным или религиозным — пусть лучше будет прагматичным, пусть отражает действительно универсальное пожелание, близкое каждому человеку, да, в сущности, и каждому живому существу. А еще он должен быть простым, чтобы легко запоминался. Я перевернул распечатанное на принтере письмо Джоуэла и Тайлера и написал:
Универсальный принцип — это приверженность делу создания стабильного, жизнеспособного мира без войн и насилия для всех людей на Земле.
Очень соблазняла мысль приписать что-нибудь насчет признания того факта, что ни один ребенок не унаследует такого мира, если он не станет наследием всех детей планеты. Однако, решил я, это и так следует из написанного. Потом захотелось добавить слова о растениях, животных и вообще о природе в целом, но я подумал, что это и так подразумевают эпитеты стабильный и жизнеспособный. Все же лучше, чтобы такое важное послание было кратким и простым.
Мы обязаны создать стабильный, жизнеспособный мир без войн и насилия для всех людей на Земле.
Еще до Денвера и Сиэтла я считал наше время важным моментом истории. Однако впечатления от общения с университетской молодежью, с ветеранами войн, которые теперь выступают за их прекращение, с активистами неправительственных организаций, а также моя собственная идея о необходимости превратить империалистический капитализм в демократический — все это убедило меня, что нынешние времена — самый важный момент в истории.
Мы уже осознали, что наше общество неблагополучно, что наши лидеры процветают за счет царящих в нем нестабильности и неравенства, что мы подвергаемся эксплуатации, и все же нас продолжают уверять, что мы не несем за все это ответственности. Наши сомнения и неуверенность выливаются в один вопрос, который звучит практически на каждой моей презентации. Я считаю его самым главным вопросом нашего времени.
64
Самый главный вопрос нашего времени
«Прежде чем задать вопрос, хочу сказать, что согласна с вами», — произнесла в микрофон, который был установлен в центральном проходе между рядами, женщина лет тридцати-сорока. У нее были рыжевато-каштановые волнистые волосы и загадочная улыбка, чем-то напомнившая мне Мэрил Стрип. Ее ярко-голубая блуза и широкие бежевые брюки подошли бы и учительнице, и юристу, и актрисе, и просто домохозяйке.
«Чтобы изменить мир, мы должны убедить корпорации изменить свои цели; они должны переключиться с обслуживания интересов горстки богатых на служение всем нам, чтобы сделать нашу жизнь лучше, а также защищать окружающую среду и все сообщества, в которых живут люди». Она подарила присутствующим очаровательную улыбку и добавила: «С этим я абсолютно согласна».
Тут я начал понимать, к чему ведет эта прелюдия. Женщина собиралась задать вопрос, который возникает на всех моих выступлениях и волнует всех слушателей. Это был четвертый вопрос из моего списка, и на него непременно следовало найти ответ.
Ожидаемый мною поворот событий не заставил себя ждать: женщина хлопнула себя по бедрам и воскликнула: «А я-то, лично я что могу сделать для этого?» — и посмотрела на меня вызывающе.
«А вот и он», — проворчал я себе под нос и уже нормальным голосом громко поблагодарил даму за ее вопрос.
В начале путешествия по стране с презентацией своей книги я все не мог понять, у всех ли людей и всегда ли возникает такой вопрос или это особенность тех, кто пережил времена Гитлера, первой атомной бомбы, войны во Вьетнаме, Уотергейта, 11 сентября и войны в Ираке? Всегда ли мы ощущали себя такими слабыми и беспомощными? Или это особенность наших дней?
Размышляя на эту тему, я почти всегда вспоминаю своего деда. Во времена Великой депрессии он был владельцем небольшой мебельной фабрики в одном из сельских районов Нью-Хэмпшира. И хотя я не застал его в живых, мое детство, можно сказать, прошло под сенью его доброй памяти. Как гласят семейные предания, дед никогда не принимал важных решений, не посоветовавшись со своими работниками. Он говорил, что его детям не видать хорошей жизни, если самые бедные из членов местной общины не будут жить хорошо, и стал помогать ей выживать в условиях депрессии.
Как и остальные местные предприниматели, мой дед решил, что нельзя тратить нажитый капитал, чтобы еще больше разорять бедняков, скупая за бесценок их дома и фермы. Вместо этого они стали развивать местную экономику, создавая рабочие места для тех, кто лишился заработка: лесорубов, плотников, дворников, жестянщиков, ткачей, мебельщиков. При этом никто никогда не называл моего деда добрым самаритянином. Его вспоминали только как человека мудрого, который понимал, что его еще не родившихся внуков ждет светлое будущее только в том случае, если таковым же оно будет и у внуков соседских фермеров и работяг.
Еще я думал о своем отце. Он тоже мог не размышлять о событиях, которые потрясали мир, о войне например. Отец мог бы рассуждать примерно так: Гитлер, конечно, деспот и злодей, но он далеко, в Европе, и между нами пролегает целая Атлантика. Ну и что с того, что он уничтожает евреев, — мы-то ведь не евреи, нам ничего такого не грозит. Разве мой отец не мог решить, что все это его не касается, и жить спокойно или в крайнем случае пойти обучать переводчиков — он ведь был преподавателем английского. Но вместо всего этого отец записался добровольцем на флот и сопровождал конвои нефтеналивных танкеров через Атлантику, что было делом чрезвычайно опасным.
А еще я думал о суфражистках, о профсоюзных лидерах, о борцах за гражданские права, о тех, кто протестовал против войны во Вьетнаме, о молодых девчонках, которые вставляли цветы в дула солдатских винтовок, о студентах, которые ложились под гусеницы танков в Москве и Пекине. Многие эти события остались в далеком прошлом, а некоторые из них произошли, когда я уже был взрослым человеком.
Все это возвращало меня к раздумьям о сегодняшних событиях, о том, как смелые мужчины и женщины вставали на пути бульдозеров в Орегоне, защищая от вырубки местные леса; как колумбийские фермеры приковывали себя к изгородям, чтобы нанятые корпорациями наемники не могли согнать их с собственных земель.
Я вспоминал спортсменов, которые отказывались выступать в спортивной одежде фирм, которые используют потогонную систему на своих фабриках; о тех, кто поет песни протеста; кто карабкается на здания, чтобы вешать обличительные плакаты; кто покупает только в тех кооперативах, которые бережно относятся к окружающей среде и проявляют социальную ответственность; о тех, кто предпочитает частные магазины супермаркетам, принадлежащим корпорациям; о тех, кто подобно моей дочери добровольно отказывается от блестящей карьеры, посвящая себя делу, которое дает намного больше, чем просто деньги. И ведь все это происходит сегодня. Так откуда же этот страх, эта неуверенность?
Вот что я ответил рыжекудрой женщине в голубой блузе и бежевых брюках: «Знаете, я часто слышу этот вопрос и все же не понимаю, почему его так часто задают. Разве мы — вы и я — не живем в стране, которая всегда гордилась собой как оплотом демократии? Тем, что мы, американцы, — люди действия?» Потом я рассказал про своих отца и деда. «Не думайте, что вы одиноки, — продолжал я, обводя взглядом слушателей, — скольким из вас хочется задать мне тот же вопрос? Скольким из вас хочется узнать, что лично они могут сделать, чтобы наша жизнь стала лучше?»