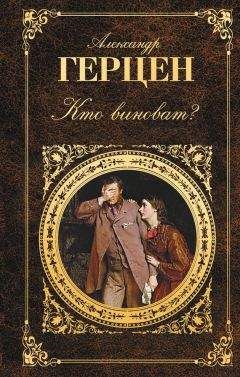эту вивисекцию, с ужасом отворачивается, проклиная свою страну в ее прошлом, в ее настоящем и в ее будущем. Да, этот мрачный голос зазвучал лишь затем, чтобы сказать России, что она никогда не жила по-человечески, что она представляет собой «лишь пробел в человеческом сознании, лишь поучительный пример для Европы». Он сказал России, что прошлое ее было бесполезно, настоящее тщетно, а будущего никакого у нее нет.
Не соглашаясь с Чаадаевым, мы все же отлично понимаем, каким путем он пришел к этой мрачной и безнадежной точке зрения, тем более что и до сих пор факты говорят за него, а не против него. Мы верим, а ему довольно указать пальцем; мы надеемся, а ему довольно лишь развернуть газету, чтобы доказать свою правоту. Заключение, к которому приходит Чаадаев, не выдерживает никакой критики, и не тем важно это письмо; свое значение оно сохраняет благодаря лиризму сурового негодования, которое потрясает душу и надолго оставляет ее под тяжелым впечатлением. Автора упрекали в жестокости, но она-то и является его наибольшей заслугой. Не надобно нас щадить: мы слишком быстро забываем свое положение, мы слишком привыкли развлекаться в тюремных стенах.
Статья эта была встречена воплем скорби и изумления; она испугала, она глубоко задела даже тех, кто разделял симпатии Чаадаева, и все же она лишь выразила то, что смутно волновало душу каждого из нас. Кто из нас не испытывал минут, когда мы, полные гнева, ненавидели эту страну, которая на все благородные порывы человека отвечает лишь мучениями, которая спешит нас разбудить лишь затем, чтобы подвергнуть пытке? Кто из нас не хотел вырваться навсегда из этой тюрьмы, занимающей четвертую часть земного шара, из этой чудовищной империи, в которой всякий полицейский надзиратель – царь, а царь – коронованный полицейский надзиратель? Кто из нас не предавался всевозможным страстям, чтобы забыть этот морозный, ледяной ад, чтобы хоть на несколько минут опьяняться и рассеяться? Сейчас мы видим все по-другому, мы рассматриваем русскую историю с иной точки зрения, но у нас нет оснований ни отрекаться от этих минут отчаяния, ни раскаиваться в них; мы заплатили за них слишком дорогой ценой, чтобы забыть о них; они были нашим правом, нашим протестом, они нас спасли.
Чаадаев замолк, но его не оставили в покое. Петербургские аристократы – эти Бенкендорфы, эти Клейнмихели – обиделись за Россию. Важный немец Вигель, – по-видимому, протестант, – директор департамента иностранных вероисповеданий, ополчился на врагов русского православия. Император велел объявить Чаадаева впавшим в умственное расстройство. Этот пошлый фарс привлек на сторону Чаадаева даже его противников; влияние его в Москве возросло. Сама аристократия склонила голову пред этим мыслителем и окружила его уважением и вниманием, представив тем самым блистательное опровержение шутке императора.
Письмо Чаадаева прозвучало подобно призывной трубе; сигнал был дан, и со всех сторон послышались новые голоса; на арену вышли молодые бойцы, свидетельствуя о безмолвной работе, производившейся в течение этих десяти лет.
14 (26) декабря слишком резко отделило прошлое, чтобы литература, которая предшествовала этому событию, могла продолжаться. Назавтра после этого великого дня еще мог появиться Веневитинов, юноша, полный мечтаний и идей 1825 года. Отчаяние, как и боль после ранения, наступает не сразу. Но, едва успев промолвить несколько благородных слов, он увял, словно южный цветок, убитый леденящим дыханием Балтики.
Веневитинов не был жизнеспособен в новой русской атмосфере. Нужно было иметь другую закалку, чтобы дышать воздухом этой зловещей эпохи, надобно было с детства приспособиться к этому резкому и непрерывному ветру, сжиться с неразрешимыми сомнениями, с горчайшими истинами, с собственной слабостью, с каждодневными оскорблениями; надобно было с самого нежного детства приобрести привычку скрывать все, что волнует душу, и не только ничего не терять из того, что в ней схоронил, а, напротив, давать вызреть в безмолвном гневе всему, что ложилось на сердце. Надо было уметь ненавидеть из любви, презирать из гуманности, надо было обладать безграничной гордостью, чтобы, с кандалами на руках и ногах, высоко держать голову.
Каждая песнь «Онегина», появлявшаяся после 1825 года, отличалась все большей глубиной. Первоначальный план поэта был непринужденным и безмятежным; он его наметил в другие времена, поэта окружало тогда общество, которому нравился этот иронический, но доброжелательный и веселый смех. Первые песни «Онегина» весьма напоминают нам язвительный, но сердечный комизм Грибоедова. И слезы и смех – все переменилось.
Два поэта, которых мы имеем в виду и которые выражают новую эпоху русской поэзии, – это Лермонтов и Кольцов. То были два мощных голоса, доносившиеся с противоположных сторон.
Ничто не может с большей наглядностью свидетельствовать о перемене, произошедшей в умах с 1825 года, чем сравнение Пушкина с Лермонтовым. Пушкин, часто недовольный и печальный, оскорбленный и полный негодования, все же готов заключить мир. Он желает его, он не теряет на него надежды; в его сердце не переставала звучать струна воспоминаний о временах императора Александра. Лермонтов же так свыкся с отчаяньем и враждебностью, что не только не искал выхода, но и не видел возможности борьбы или соглашения. Лермонтов никогда не знал надежды, он не жертвовал собой, ибо ничто не требовало этого самопожертвования. Он не шел, гордо неся голову, навстречу палачу, как Пестель и Рылеев, потому что не мог верить в действенность жертвы; он метнулся в сторону и погиб ни за что.
Пистолетный выстрел, убивший Пушкина, пробудил душу Лермонтова. Он написал энергическую оду, в которой, заклеймив низкие интриги, предшествовавшие дуэли, – интриги, затеянные министрами-литераторами и журналистами-шпионами, – воскликнул с юношеским негодованием: «Отмщенье, государь, отмщенье!» Эту единственную свою непоследовательность поэт искупил ссылкой на Кавказ. Произошло это в 1837 году; в 1841 тело Лермонтова было опущено в могилу у подножья Кавказских гор.
И то, что ты сказал перед кончиной,
Из слушавших тебя не понял ни единый…
…Твоих последних слов
Глубокое и горькое значенье
Потеряно [169].
К счастью, для нас не потеряно то, что написал Лермонтов за последние четыре года своей жизни. Он полностью принадлежит к нашему поколению. Все мы были слишком юны, чтобы принять участие в 14 декабря. Разбуженные этим великим днем, мы увидели лишь казни и изгнания. Вынужденные молчать, сдерживая слезы, мы научились, замыкаясь в себе, вынашивать свои мысли – и какие мысли! Это уже не были идеи просвещенного либерализма, идеи прогресса, – то были сомнения, отрицания, мысли, полные ярости. Свыкшись с этими чувствами, Лермонтов не мог найти спасения в лиризме, как находил его Пушкин. Он влачил тяжелый груз скептицизма через все свои