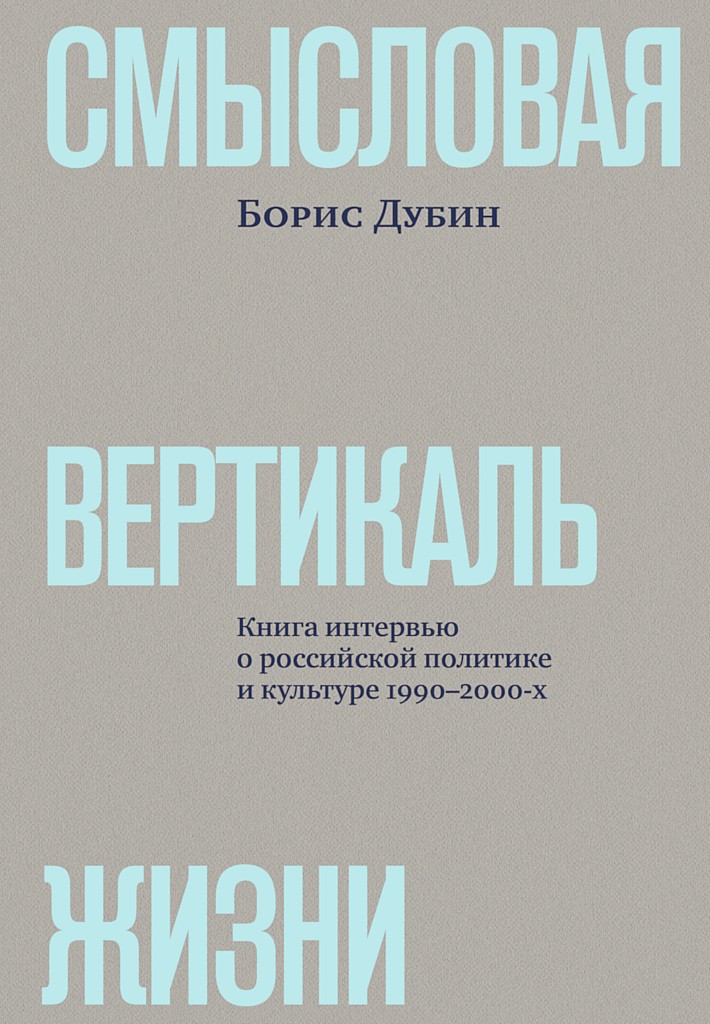Кронер: «Спекуляция и откровение в истории философии»; Зедльмайр: «Искусство и истина»; Голо Манн: «Немецкая история в XIX и XX столетии»; Клаус Менерт: «Советский человек».
Литература. Фриш: «Бидерман и поджигатели»; Иоганнес Бехер: «Шаг середины века» (ГДР, стихи).
1959
Идеи. Хайдеггер: «На пути к языку»; Х. Арендт: «Кризис воспитания»; Шельски: «Предназначение немецкой социологии»; Кёниг: «Практика социального исследования»; Юнгер: «У стены времени».
Литература. Бёлль: «Бильярд в половине десятого»; Грасс: «Жестяной барабан»; Рихтер: «Линус Флек, или Утраченное достоинство»; Уве Йонзон: «Догадки о Якобе»; Закс: «Бегство и преображение» (стихи); Дюрренматт: «Франк Пятый» (пьеса); Целан: «Решетки речи» (стихи); Зигфрид Лени: «Хлеба и зрелищ» (ГДР); Зегерс: «Решение» (ГДР).
1960
Идеи. Юнгер: «Мировое государство: Организм и организация»; Арендт: «Vita activa, или О деятельной жизни»; Канетти: «Масса и власть»; Беттельхайм: «Просвещенное сердце»; Больнов: «Философия существования»; Гадамер: «Истина и метод»; X. Блюменберг: «Парадигмы метафорологии».
Литература. Премия Немецкой академии литературы и языка Паулю Целану.
Российское интеллектуальное сообщество на таком фоне выглядит, пожалуй что, анемичным и суетливым одновременно. Не из-за этой ли анемии, астенического синдрома, который вовсе не ограничивается интеллектуальными кругами, а охватывает преобладающую часть населения России, некоторые из более молодых, а то и среднего возраста литераторов, деятелей искусства, менеджеров культуры, наиболее нетерпеливых, чувствующих дефицит признания и поддержки, ищущих быстрого действия и немедленного отклика, пытаются разыграть сегодня карту политического и эстетического радикализма, вгоняя, по устному выражению Ю. Левады, гексоген прямо в кровь? Для меня в интеллектуальном пейзаже послевоенной Германии — ограничусь приведенным списком — важно и явно совсем другое: чрезвычайное, особенно если учитывать давление самых неблагоприятных экономических и социальных обстоятельств, многообразие идей и подходов к проблемам общества, культуры, человека. Радикализм выглядит в этих рамках достаточно маргинальным. И более ранние (1920–1930-х годов), и более поздние («ревущих шестидесятых») радикальные альтернативы в политике, идеологии, культуре кажутся мне вовсе не условием подъема и расцвета, этаким (характерный лексикон!) вливанием «свежей крови», а, напротив, рывком в сторону той части интеллектуалов, которая не выдерживает нового вызова, новых уровней напряженности творческого, мыслительного, морального существования. Это, напротив, попытка снизить резко выросшую после Первой и Второй мировых войн сложность моральной, интеллектуальной, культурной ситуации. Попытка как можно скорее и не особенно задумываясь о последствиях (нередкое для переломных периодов самоощущение новобранцев и однодневок!) справиться с самыми острыми проблемами многократно увеличившейся в них условиях ответственности интеллектуалов через идеологическое упрощение картины мира: фашизм — коммунизм, правые — левые, интеллектуалы — власть и т. п.
Любое (и действительно необходимое сегодня в России) новое ощущение жизни, жизненной силы, новых горизонтов — ценности и переживания, по-моему, первичные и самодостаточные. Подзуживать и подхлестывать тут никого не нужно. А вот «разгружать», осмыслять, символически прорабатывать такие сложнейшие комплексы социальных, культурных проблем, как, например, в послевоенной Германии или Италии, в постфранкистской Испании, в Восточной Европе после «бархатных» и не очень «бархатных» революций, переводить их в осмысленные и коллективные действия можно по-разному. Радикализация, политизация, чаще всего сопровождаемые популизмом, изоляцией и ксенофобией, если не прямым террором (вряд ли искусству на сей раз почему-либо удастся остаться от него в стороне), — всего лишь один из путей. Он может показаться кому-то наиболее скорым, но разве он от этого лучше? Цена этой быстроты слишком велика. В символическом, смысловом, собственно культурном плане такой маршрут довольно беден, поскольку прост, но именно поэтому он, в общем, и крайне короток (однако с похмельными последствиями, долгими и тяжелейшими). Примеров подобного блажного куража или кавалерийского наскока в давнем и не таком уж давнем прошлом России не занимать.
Общезначимые образцы
Россия всегда была литературоцентричной страной. И литература всегда пыталась найти, нащупать какие-то пути движения, подталкивать власть к каким-то переменам…
Или пробовала уйти — как символисты это сделали. Мне кажется, они попытались, чуть ли не впервые, если об опыте группы говорить, не просто уйти от политики, а взять регистром выше. Бродский говорил: если нота не дается — возьми регистром выше. Они попытались выйти в другие уровни существования. Символистская эпоха — время философских, религиозных, литературных поисков, тогда, собственно, идея современной культуры у нас начала формироваться, приобретать какие-то черты. Это было движение в сторону, как всегда сложное, движение к Европе, ко всему миру. Другое дело, что не получилось. Но они хотя бы попытались это сделать. Как попытался сделать Бродский — и получилось. Не просто сменил страну, но и регистр — и оказалось возможным. Получилось.
У кого еще? У Тарковского?
Ну… да. Ограничить себя здесь, на земле, и пойти по вертикали в небо. Ну, вообще говоря, поэтам как раз такой путь и показан. Прозаикам что делать? Проза-то из земли растет. Так просто отсюда не уйдешь. За небо надо держаться, поглядывать на небо, иначе дыхание кончится, жить будет невозможно, но раз жизнь на земле, невозможно зажмуриться, закрыться. Почему перестали писать на исходе сталинской эпохи и число писателей было практически равно числу получивших премии? Потому что — из чего писать, если все закрыто?..
Сейчас все открыто, но есть ощущение отстраненности ото всех проблем… Даже в ситуации с терактом на Дубровке сказалось: вызвались помогать врачи, потребовалась помощь журналиста Анны Политковской, сработал советский авторитет Кобзона, туда ринулись, как на светскую тусовку, звезды политического бомонда и шоу-бизнеса — но там не было писателей, и никому не пришло в голову обратиться к ним за помощью, и я не припомню, дай бог, чтобы ошиблась, чтобы кто-то из писателей обратился в той ситуации к террористам и властям… Как говорится, пример из жизни. Но он объясняется, мне кажется, тем, что до недавнего времени происходило в литературе — на уровне текстов.
Литература, называющая себя серьезной, перестала вырабатывать общезначимые образцы. Людей, которые озабочены созданием общезначимого образца — не стереотипа, а общезначимой ценности, идеи — действительно мало… Но я не могу сказать, что та же Нина Горланова этим не озабочена. Очень озабочена. И ей на своего читателя совершенно не наплевать. Она бы, думаю, хотела — говоря старыми словами — влиять на народ, не в том смысле, что растить и пропалывать, а как-то веять, что ли, культурно, свою связь чувствовать, как она ее душою чувствует. Но — одиночка.
Никого рядом?
Одиночка. Нет, есть люди рядом, которые помогают, сочувствуют.
А, нет, я-то другое имела в виду — не по жизни, а в литературе…
Одиночка по духу. Может, это опыт такой, кривой, моего формирования, в том числе и окололитературного, но я-то всегда думал, и в этом