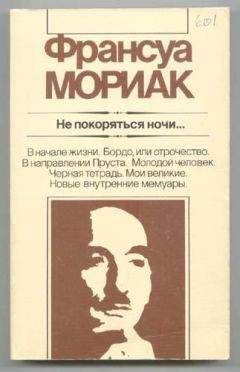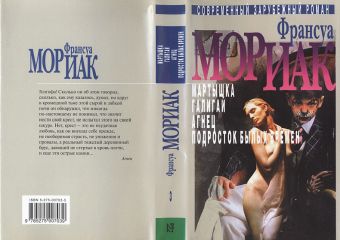V
Я не знаю ничего, что может сильнее, чем эти строки, смутить человека, наделенного опасным даром творить живых людей, проникать в тайны сердец. Лишь в одном пункте я расхожусь с Жаком Маритеном: мне представляется величайшей несправедливостью возлагать всю ответственность на одного-единственного человека. Нет, пусть Руссо один из отцов нового анализа чувства, пусть он одним из первых был поражен недугами, переданными нам по наследству, движение, заставляющее нас обнародовать эти тайны, открывать сокровенные синяки, порождено не только им; ни для кого нет сомнения, что, даже если бы не было Руссо, современных романистов все равно бы влекло, тянуло в те же запретные сферы; путешественники знают, как с каждым днем все неуклонней сужается на карте мира зона неведомых земель.
И все же, хотя вечные конфликты, которыми роман жил более столетия, утратили в значительной мере свою остроту, это вовсе не значит, что их не существует; вселенная Морана еще не вся вселенная; есть провинции, где старые плотины пока прочны. Французская провинциальная семья в 1927 году дала бы Бальзаку столько сюжетов, что он мог бы разрабатывать их всю жизнь. Драмы еще существуют, и моему читателю известно, что я отношусь к тем, для кого они — источник наименее слабой части их творчества, однако часто оказывается, что писателя они не интересуют, да и не могут заинтересовать именно потому, что уже был Бальзак и бессчетное множество маленьких Бальзаков. Думаю, что иные критики, разрезая страницы новой книги, порой вздыхают: «Еще один Бальзак!» Как же мы теперь далеки от утверждения Брюнетьера *: «Уже более полувека хорошим романом в первую очередь считается тот, что похож на бальзаковский». Мы же, напротив, попытались бы сказать так: новый роман привлекает наше внимание лишь в той мере, в какой он далек от бальзаковского типа. Представьте себе лес, который исполин Бальзак вырубил чуть ли не под корень, затем, пришли другие и срубили все, что не тронул он, а нам остается только продекламировать вместе с Верленом:
Все выпито, все съедено! Ни слова! 1
1 П. Верлен. Лирика. М., «Худож. лит.», 1969, с. 153. (Пер. Б. Пастернака.)
Последователи Бальзака, и в частности самый известный из его литературных потомков, знаменитый Поль Бурже, изучали человека в его связи с семьей и обществом. Эти писатели составили себе крайне высокое представление о своем ремесле. Они жаждали служить людской общности, городу и миру; вся мощь их искусства была направлена против индивидуума. Бальзак же поначалу соперничал с отделом записи актов гражданского состояния и творил свой мир, не пытаясь ничего доказывать (по крайней мере в большинстве произведений, хотя имеются и исключения, например «Сельский врач»), и почти всегда писал без оглядки на свои политические убеждения; лишь задним числом он вывел из «Человеческой комедии» обязательные принципы общественной жизни. Его последователи пошли противоположной дорогой и проиллюстрировали своими романами вечные законы консервативной мудрости. Труд полезный, труд достойный всяческого восхищения, и он принес свои плоды (как в том убедился мир в 1914 году), хотя вполне возможно, что эти мои слова — реакция на гигантскую гекатомбу; но мы сегодня поражены грозным недугом — неспособностью поставить свое искусство на службу какому-нибудь делу, как бы ни было это дело возвышенно; мы более не воспринимаем роман, уклонившийся от своей цели — познания человека.
Без сомнения, Бурже с самого дебюта испытывал те же чувства и в посвящении г-ну Тэну «Андре Корнелиса» * сравнивал эту объемистую книгу с нравственным анатомическим атласом, составленным по самым последним данным науки о духе. Но сегодня мы опасаемся, что такой науки не существует. А более всего опасаемся использования в романе методов естествознания. Надо признать, что в школе г-на Тэна — это относится и к философии, и к литературе, — как ни в какой другой, господствовали общие места и бездоказательные утверждения; подчинившись пресловутой теории расы, среды и момента *, она никогда не обладала ни малейшим чувством вещи как таковой, вкусом к ней, никогда не интересовалась ни постижением индивидуума в его подлинности, ни изучением его как неповторимого, уникального существа. Леон Брюнсвик* в недавней статье о философской литературе девятнадцатого века приводит весьма своеобразное кредо г-на Тэна, взятое из его речи при вступлении в Академию. Тэн сказал:
«К счастью, как прежде, так и теперь в обществе существуют группы, а в каждой группе люди, сходные между собой, имеющие одинаковое происхождение, получившие одинаковое воспитание, руководствующиеся одинаковыми интересами, имеющие одинаковые потребности, вкусы, привычки, одинаковый уровень культуры и одинаковую сущность. Достаточно понять одного, чтобы понять и всех остальных, поскольку в любой науке каждый класс предметов мы изучаем по отдельным образцам».
Невозможно зайти дальше в презрении к индивидуальным различиям, на которых зиждется современный роман, и Леон Брюнсвик с полным основанием противопоставляет Тэну одну-единственную строку из Паскаля: «Чем умнее человек, тем больше своеобычности он находит во всяком, с кем сообщается» 1. Именно поэтому наше поколение так ополчается против школы Тэна, и нам представляется, что те, кто младше нас, пойдут в этом смысле еще дальше. Те, кто младше, а также некоторые из тех, кто старше: последние произведения Анри Бордо * свидетельствуют о глубинном усилении этой тенденции.
1 Б. Паскаль. Мысли. — В кн.: Французские моралисты. БВЛ. М., «Худож. лит.», с. 114. (Пер. Э. Линецкой.)
Прошлым летом молодой журнал «Кайе дю муа» объединил под общим заглавием «Суд совести» признания многих молодых людей, в большинстве своем еще не дебютировавших в литературе. Если Жак Маритен их читал, то мог понять, насколько непреодолим инстинкт, отвращающий нас и тех, кто следует за нами, от риторического, воинствующего романа, герои которого, являющиеся представителями нации, класса или поколения, мобилизованы на службу той или иной идеологии; он мог осознать силу порыва, толкающего нас совсем в другом направлении и с каждым днем хоть немного да приближающего к тайне сердец — каждого сердца, которое мы рассматриваем как целый мир, как вселенную, отличную от всех прочих, наконец, как пустыню. Мы утратили — возможно, это великое несчастье — способность возмущаться и испытывать отвращение; мы смеем читать в самых несчастных глазах, потому что ничто человеческое нас не возмущает и не вызывает отвращения.
Вот что, например, пишет Ален Лемьер, один из молодых сотрудников «Кайе дю муа»:
«Я верю только в четкую реальность, в то, что можно взять в руки, и живу прежде всего в самом себе. Когда я пишу, для меня главное передать объемность вещей, их теплоту, плотность, мягкость или жесткость. Передать неподдельную весомость жизни. Мне хочется, чтобы читатель почувствовал прикосновение к ним. Я пишу лишь для осязания. Но я хочу пробиться за внешние контуры. Психофизиология дарит наслаждение работы внутри живой плоти, наслаждение ощущать под пальцами плоть, живущую собственной органической, животной жизнью. Нет выше радости, чем ваять живое. Дать плоти жизнь, наполнить ее кровью. И почувствовать, как сотворенное по твоему хотению создание ускользает от тебя, потому что повинуется, как все живое, законам природы. И плевать на отвратительные частности, вызывающие брезгливость у писателей-идеалистов. Нет благородных тем, есть только жизнь и ее потребности».
В этих нескольких строках содержится вся суть подобного суда совести. Поглощенность человеком, жажда не упустить ни капли из того, что в нем живет, — вот, думаю, те чувства, которые преобладают у всех нас, у старших и у младших. Да, именно познание человека; и как бы ни были мы потрясены торжественными предостережениями Маритена, ничто не помешает нам идти вперед, тем более что на этом пути нам предшествуют наши учителя, а чары, совсем недавно не позволявшие писателю касаться определенных тем, разрушены. В этом смысле Пруст оказал огромное влияние на все поколение, следующее за ним. На те самые тайны чувств, от которых Маритен заклинает отводить взгляд, Пруст указывает как на средство, с помощью которого мы постигнем сущность человека; он манит нас надеждой, что, вскрывая самое затаенное в человеческой натуре, мы продвинемся в познании его дальше, чем наши гениальные предшественники; ведь нет сомнения, что у людей, кроме их общественной и семейной жизни, кроме действий, на которые их вынуждает среда, профессия, воззрения, убеждения, существует еще некая потаенная жизнь, и нередко в этой грязи, скрытой от чужих глаз, погребен тот ключ, которым мы откроем человека во всей его полноте.
Мне могут возразить: «А не рискуете ли вы, занимаясь лишь тем, что уродливо и противоестественно, замкнуться в изучении исключительных, патологических случаев, вместо того чтобы постигнуть человека целиком, к чему вы так тщеславно стремитесь?» Безусловно, такая опасность существует; тем не менее мы вправе спросить у себя, является ли познание нормального человека самодовлеющей ценностью. Начнем с того, что все люди совершают примерно одни и те же поступки, произносят одни и те же слова, одно и то же любят или ненавидят, однако по мере их изучения — каждого в отдельности и как можно пристальней — вырисовываются различия в их характерах, выявляются прямо-таки необоримые противоположности, так что можно представить себе, как в человеке, кажущемся совершенно нормальным, психолог добирается до того, благодаря чему этот человек оказывается отличным от всех других, «самым неповторимым среди живущих на свете», или уродом в полном смысле этого слова. Выявить в каждом сердце наиболее индивидуальное, своеобразное, непохожее — вот что мы пытаемся делать.