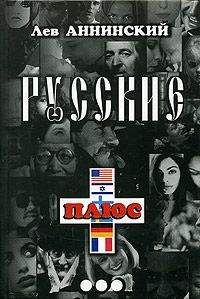Словообилие — черта народа связующего, сопрягающего. Хотя, конечно, этот «клей» может быть заварен и не на образной словесности, а на словесности юридической (тот же Рим), политической (Британия), ритуально-иерархической (Срединная империя) или еще какой-нибудь. Молчать хорошо в одиночестве, а общество обязывает. Североамериканцы куда общительнее островных англичан, от которых произошли, а южноамериканцы значительно говорливее испанцев, от которых опять-таки ведут родословие.
Так что «падение империи», на развалинах которой ликуют сегодня народы, освобожденные от «ужасов русификации», — несомненно, как-то подействует и на русский характер. Возможно, не все мы останемся святыми, но большинству из нас придется стать честными. С юродством возникнут сложности. Не исключено, что мы уже не будем так говорливы и литературны. Займемся собой, своим домом, своим делом. «Плоскими шахматами».
И евреи в своем государстве не будут так «безъяичны», как изобразил их Розанов, а Галковский повторил.
И французы не будут так «безмозглы», как кажется автору «Бесконечного тупика».
Это я уже не об «имперских» чертах характера, а о том, как все меняется в этой жизни. В том числе и национальные души.
Ортега-и-Гассет заметил: нации — не то, что «есть», а то, что «делается».
Вразрез с жанром Дмитрия Галковского, сочинение которого строится как цепочка примечаний к своим и чужим цитатам, — я эту мысль великого испанца оставляю без комментариев.
Прошу у читателя прощенья за крепкие обороты в тексте, но правда прежде всего.
Знаменитая издательница и публицистка, о крутом нраве и сочном русском языке которой давно слагаются легенды и в эмиграции, и в России, назову ее здесь Марьей Васильевной — сказала:
— Парижские тайны требуют времени. Надеюсь, вы не собираетесь потратить здесь ваше дорогое время на такую свалку, как Лувр?
Я замер. Отчасти чтобы скрыть смущение, отчасти оттого, что всплыли воспоминания: двенадцать лет назад я уже посетил Лувр.
Я с трудом попал тогда в писательскую тур-группу. На Париж нам было отведено четыре дня, на Лувр — четыре часа. Мы двигались строем, рассекая толпу, от экспоната к экспонату; нам было сказано, что отставших искать не будут. Звучало это почти так же, как: шаг вправо, шаг влево считается побег. Отставший и впрямь оказывался в незавидном положении: без обеда, без ужина и без внятных перспектив, потому что на счету был каждый франк.
Итак, мы шли, почти держась за руки, как детсадовская группа, и внимали экскурсоводу, но когда впереди показалась Венера Милосская, со мной что-то произошло. Я вдруг подумал, что никогда больше ее не увижу (был 1984 год, «холодная война»). Еще я подумал, что Алпатов советует непременно обходить скульптуру кругом. Словом, я отцепился от группы и, наступая на чьи-то ноги, слушая чье-то шипенье, пошел, как сомнамбула, вокруг статуи. Я прошел уже четверть круга, когда был схвачен за руку, остановлен, выдернут из блаженства, обруган и утащен догонять группу. Меня ждали. Из-за меня уже начали чуть-чуть стервенеть, потому что группа потеряла темп. Сжавшись, я выслушал все, что полагалось. Я знал, что поступил плохо. Но это была Венера Милосская — в первый и в последний раз в моей жизни.
Лишь двенадцать лет спустя выяснилось, что — не в последний.
Я попал в Париж в марте 1996 года — на международный симпозиум памяти Владимира Максимова: Максимов, писатель-эмигрант, основатель и редактор журнала «Континент», яростный публицист, раздразнивший своими последними статьями в «Правде» и правых, и левых, — умер за год до того в Париже.
Народу эмигрантского пришло много. Даже неожиданно много. Марья Васильевна дала этому факту столь же неожиданное (для меня) объяснение:
— Деньгами запахло. Если к власти в России вернутся коммунисты, все эти люди получат работу — бороться с ними.
— А если коммунисты не придут? — робко предположил я.
— Тогда все эти люди в жопе, — сказала она.
Я умолк.
Не буду подробно рассказывать о симпозиуме — тут нужен другой жанр, другой настрой и другой объем. Скажу только, что спектр был богат и представителен, а проблематика актуальна. Из приехавших россиян: Лариса Пияшева говорила о нашей бедственной экономике, Юрий Давыдов — о бедственной нашей истории, Игорь Виноградов — о бедственной духовной ситуации. Однако Фазиль Искандер, Андрей Дементьев и Чингиз Айтматов не давали нам впасть в уныние, что было весьма кстати, потому что «другая сторона», кажется, ожидала от нас именно уныния. На «другой стороне» блистали Андрей Синявский, Эдуард Кузнецов, Владимир Буковский, Эрнст Неизвестный, Наталья Горбаневская, Алексис Берелович…
Спорить мне ни с кем не хотелось, но пару раз я испытал желание задать оратору вопрос.
Во-первых, когда академик Осипов демонстрировал статистику, согласно которой Россия по всем цивилизованным социологическим допускам давно «зашкалила», — хотелось спросить: но тогда мы должны быть уже трупами? Или, может быть, имеет смысл учредить для России особые допуски?
Во-вторых, когда старый «левак» Андрэ Глюксманн объяснил, что тоталитаризм — это не что иное, как наивная попытка индивидов обрести бессмертие, как и община, как и нация, — хотелось спросить: а демократия тоже попытка обрести бессмертие?
Но ораторам я вопросов так и не задал. Я их задал в кулуарах Марии Васильевне. В статистику она вникать не стала, а о Глюксманне заметила, что когда-то дважды перед ним извинялась за то, что напечатала статью Пятигорского…
— О, это где Пятигорский дважды послал Глюксманна в задницу? радостно откликнулся я, блистая эрудицией.
— Не в задницу, а в жопу, — уточнила Марья Васильевна.
Дальнейшее происходило вечером близ Сен-Жерменского подворья, где и обретались парижские тайны, обещанные мне Марьей Васильевной взамен «свалки» Лувра. Должен признать: то, что она мне показала, производило-таки впечатление: улочки шириной «с коридор», площадь величиной «с комнату», фонтан, бьющий «из-под плит». И, наконец, «Кентавр» Сезара, поставленный в память о Пикассо: нормальный мощный чугунный кентавр, вознесенный на нормальный мощный каменный постамент. Подошли — боже мой! — да он не «отлит», а склепан из «посторонних» предметов! То, что казалось роскошным хвостом, обернулось при ближайшем рассмотрении пучком кухонно-дворовой утвари: щетка, лопата, швабра…
— Не хватает «калашникова», — решил я сострить. — Но торчать он должен из другого места.
— В другом месте уже достаточно, — отбрила Марья Васильевна и предложила удостовериться.
Я удостоверился и, вернувшись к букету швабр, воздал должное:
— Впервые вижу, чтобы столько всего торчало из-под хвоста!
— Не из-под хвоста, а из жопы, — поправила Марья Васильевна. — Ну, кого в Лувре можно поставить рядом с ним?
— Некого!! — возликовал я.
«И потирая руки, засмеялся довольный».
И все-таки в последний парижский день я сбегал на «свалку», скрыв мой позор от строгой собеседницы.
Я явился туда к трем часам, потому что с трех в Лувре билеты дешевеют вдвое.
Я спустился во чрево, под изумительную стеклянную пирамиду, возведенную среди старинного квадратного двора для прикрытия гардеробов и прочих швабр.
Я купил билет, разделся, взял путеводитель.
Времени у меня было — только на мировые шедевры.
Я нашел «Нику» и побегал вверх-вниз по лестницам, оценивая Победительницу с разных точек.
Я нашел «Рабов» Микеланджело, посмотрел, как они взаимодействуют, и прикинул, не учел ли опыт Роден в «Гражданах Кале».
Я нашел «Джоконду». Нашел по изумительному, медово-золотому сиянию, которое не передается никакими репродукциями. Я сделал шаг вправо и шаг влево, проверяя эффект «слежения глазами». Я сравнил ощущения: когда за тобой следит загадочно улыбающаяся Мона Лиза и когда в тебя упирается мооровский палец: «Ты записался добровольцем?» — и убедился, что это совершенно разные ощущения.
И, наконец, я пошел к Венере Милосской. Я перед ней встал. Постоял. Потом медленно, как учил Алпатов, пошел вокруг, «против солнца», не отрывая взгляда.
И сделал полный круг.
Не было рядом Марьи Васильевны. А то спросила бы: ну как? рассмотрел? И уточнила бы, что именно.
Две программы радиостанции «Свобода» случайно оказались в эфире рядом. В моем сознании они однако соединились накрепко. И неслучайно.
Первая прозвучала в «сибирском» цикле и касалась развития культуры в Республике Саха — той самой, которая во времена проклятого советского империализма именовалась Якутией. Кира Сапгир специально предупредила слушателей, что ее репортаж не имеет ничего общего с липовой «дружбой народов». С этим, так сказать, покончено.