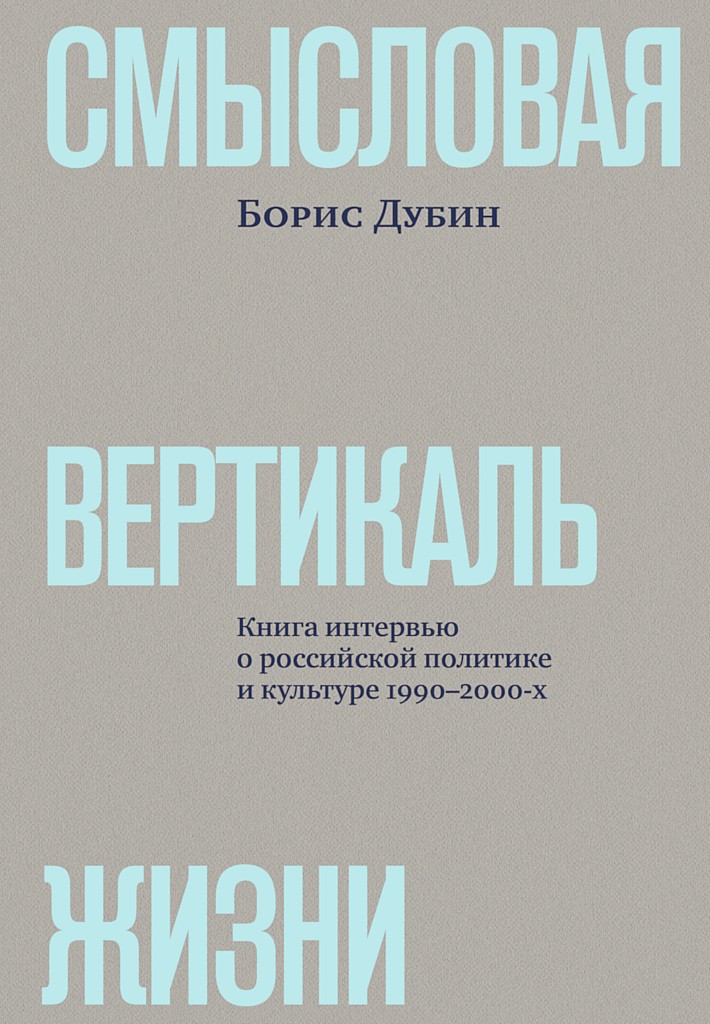тех, для кого это только игра, — он уже, возможно, начинает расти. Это уже даже популярная роль.
Похоже. Давайте попробуем упорядочить… Вроде бы как ни в жизни, ни в искусстве игра серьезности не противоположна. «Играй же на разрыв аорты», — сказано всерьез.
Конечно, искусство по своей природе — игра. Проблема в том, насколько талантлив игрок и готов ли он к тому, что ставкой, положенной на кон, может быть жизнь. И еще уточню: мой вопрос не имеет отношения к тому, о чем мы говорили раньше, — к желанию писателя все время быть новым и т. п.
Вот. Если спрашивать: я — за что? — то я за такой тип игрового существования: ты вправе ставить сколь угодно серьезные эксперименты, даже смертельные, на самом себе. Ты потому и зовешься «художник», что ставишь на себе немыслимые эксперименты и за них платишь. Плата может быть большой. Жизнь, здоровье, человеческие связи… Это в XX веке, да и в XIX опробовано. В этом смысле литература — что-то невозможное, немыслимое, невероятное, а бывает, и невыносимое… И в то же время это игра — в том смысле, что делается ставка.
Только литература? Или искусство?
Ну, искусство, да. А может, и вообще жизнь. Если говорить о жизни, которая себя строит. Ведь все-таки для европейской культуры XIX, XX века жизнь — это жизнь в культуре, она сама себя строит, пытается выстроить в биографию, в коллективную биографию, в поколение — не случайно все эти понятия начинают и рождаться, и друг к другу притягиваться для описания человека. Это тот тип литературы, на который я внутренне ориентируюсь, который ищу. Мне кажется, что рождается — опять-таки не сегодня, но сегодня расходится по жилам — такое представление о литературе, о культуре, о жизни… ну, как бы… а чо носят? Вот как мне говорил один очень способный молодой человек: «Мне интересно посмотреть, что в Москве носят». Но это же мысль, язык, это не носят, ими живут. А выходит, что можно это снять, можно это надеть, для вечера — один наряд, наутро — другой…
Замечательная серия выходит: «Как прослыть знатоком».
Именно. Прослыть, а не быть, не стать.
Я купила про джаз из любопытства — там столько ошибок!
Так сама постановка вопроса говорит о том, что ошибки обязательны. Человек внутри не был, он взял поносить. Ну что тут делать? Такие люди существуют, опять-таки они не сегодня родились. Был же гений Игорь Северянин, в конце концов. Были какие-то люди около футуризма — не Маяковский и не Хлебников, — которые разбивали доски себе об головы, демонстрировали чистый лист бумаги вместо стихов…
Тоже пиар своего рода.
Мандельштам говорил про них: «Ну ведь есть же на свете просто ерунда». И остается какая-то биография, какие-то следы чего-то, какой-то материал для исследователей.
Искусствоведы спорят, который из четырех или шести (сколько их там точно?) «Черных квадратов» написан первым, то есть — где подлинник, а где автокопии.
Бога ради. Может быть и такой тип отношения к искусству, но надо понимать, то это разные планы существования, разные роли, за ними, скорее всего, разные люди. Разные типы людей, группы людей будут втянуты в один режим существования и в другой. Еще, мне кажется, появляется некая разновидность эдакого… идиотического существования в культуре, в искусстве, в жизни вообще: не знаю и знать не хочу. Да и не надо этого всего. Очень странно, но я ее особенно часто вижу в литературной критике. Мне-то всегда казалось, что литературная критика, хоть и наставлена на современность, питается современностью, живет современностью, но без большой рамки, без понимания того, где эта современность находится на какой-то более серьезной и не плоскостной, а очень сложной стереоскопической карте, что без этого она невозможна.
Вы не думаете, что это вещь еще и поколенческая?
Похоже.
Отрублено прошлое. Пришли с чистого листа работать.
Да, понятно, что они вот так пришли. Но отчасти — чтобы соединить разные концы нашего разговора, — отчасти ведь это и обстоятельства того поколения старших, которые были «закрыты» и не сумели свой опыт передать, не сумели сделать его общим, оставили только своим. Отчасти не сумели, а отчасти и не захотели, оставили как свое заветное, не захотели делиться. Вещь, вообще говоря, в культуре совершенно невозможная и невероятная — чего не отдал, то погибло.
Это, кстати сказать, напрямую связано с толстыми журналами.
Конечно. «А неужели еще выходят?!» В частном разговоре у двадцати- тридцатилетних возникает даже заинтересованность: а дайте-ка посмотрю. Но все-таки многие из них уже люди публичные, и тогда побеждает публичная роль и говорится — ничего этого не надо, да там ничего и нет. Мне кажется, проблема во взаимной глухоте, глухоте к другому. И моего поколения, и тех, кто старше, то есть отцов, почти что в дедов переходящих, и поколения детей. Но это не поколенческая проблема, а более общая, советская — закрытого, тоталитарного общества. Казалось бы, только культура и общество начинают оттаивать, появляется возможность диалога — тут же немедленно возникает проблема отцов и детей, раскола, который как будто не перейти. Или, в официозной литературе, демонстрация братания поколений — все эти «Журбины», рабочие династии…
А вам не кажется, что происходило какое-то корневое для поколения событие — та война, Афган, Чечня, которые…
Да, согласен, но ведь вы перечисляете события сверхнормальные.
Но каждое из них определяло сознание именно конкретного поколения, наиболее вовлеченного, и другие уже не могли этого адекватно понять.
Представим это как две стороны одного. Закрытое общество, в этом смысле неготовое к иному, в этом смысле не желающее развития, а, скорее, желающее покоя боли («я уже притерпелся, уж лучше так»), или агрессивное («нам никто не нужен, мы сами умнее всех, мы всех шапками закидаем»), по-другому не может вырваться из своего кокона, кроме как через катастрофические события. И, если хотите, провоцирует революции, войны, переломы, потому что только тогда возникает возможность хотя бы на время что-то немного переменить. Потом раствор опять быстро схватывается, опять все каменеет, но хотя бы на какое-то время удается что-то поменять. Не говорю про саму войну — это было событие истребительное, чудовищное. Но после войны какие были надежды на то, что не может быть так, как раньше, должно стать по-другому. И, казалось бы, уже какие-то ветры повеяли. То же самое с «оттепелью», с перестройкой. Никогда не становится так, как было вчера, но опять появляются изоляционизм и взаимная глухота, взаимные обвинения. Разрыв и демонстрация обид друг на друга — как единственная