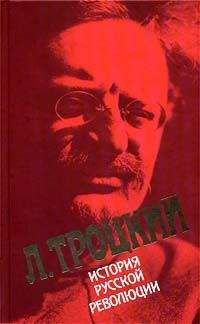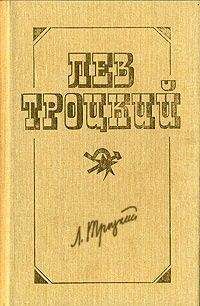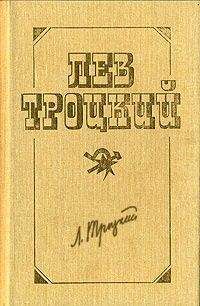Чем больше левеет гарнизон, тем больше правеет обыватель. Под толчком наступления контрреволюционные союзы возникали в Петрограде, как грибы после дождя. Они избирали имена одно звучнее другого: союз чести родины, союз воинского долга, батальон свободы, организация духа и пр. Этими великолепными вывесками прикрывались амбиции и посягательства дворянства, офицерства, бюрократии, буржуазии. Некоторые из организаций, как военная лига, союз георгиевских кавалеров или добровольческая дивизия, являлись готовыми ячейками военного заговора. Выступая в качестве пламенных патриотов, рыцари «чести» и «духа» не только легко открывали двери союзных миссий, но и получали подчас правительственную субсидию, в которой было в свое время отказано Совету как «частной организации».
Один из отпрысков семьи газетного магната Суворина приступил тем временем к изданию «Маленькой газеты, которая в качестве органа независимого социализма» проповедовала железную диктатуру, выдвигая кандидатом адмирала Колчака. Более солидная пресса, не ставя еще всех точек над i, всячески создавала Колчаку популярность. Дальнейшая судьба адмирала свидетельствует, что уже ранним летом 1917 года дело шло о широком плане, связанном с его именем, и что за спиной Суворина стояли влиятельные круги.
Повинуясь простому тактическому расчету, реакция, если не считать отдельных срывов, делала вид, что направляет свои удары только против ленинцев. Слово «большевик» стало синонимом адского начала. Как до революции царские командиры возлагали ответственность за все бедствия, в том числе и за собственную глупость, на немецких шпионов, особенно на «жидов», так теперь, после краха июньского наступления, вина за неудачи и поражения неизменно возлагалась на большевиков. В этой области демократы, вроде Керенского и Церетели, почти ничем не отличались не только от либералов, вроде Милюкова, но и от откровенных крепостников, вроде генерала Деникина.
Как всегда бывает, когда противоречия напряжены до предела, но момент взрыва еще не наступил, группировка политических сил обнаружилась откровеннее и ярче не на основных вопросах, а на случайных и побочных. В качестве одного из громоотводов для политических страстей служил в те недели Кронштадт. Старая крепость, которая должна была быть верным часовым у морских ворот императорской столицы, не раз поднимала в прошлом знамя восстания. Несмотря на беспощадные расправы, мятежное пламя никогда не потухало в Кронштадте. Оно грозно вспыхнуло после переворота. Имя морской крепости скоро стало на страницах патриотической печати синонимом худших сторон революции, т. е. большевизма. В действительности Кронштадтский Совет еще не был большевистским: в него входило в мае 107 большевиков, 112 эсеров, 30 меньшевиков и 97 беспартийных. Но это были кронштадтские эсеры и кронштадтские беспартийные, жившие под высоким давлением: большинство их в важных вопросах шло за большевиками.
В области политики кронштадтские матросы не склонны были ни к маневрам, ни к дипломатии. У них было свое правило: сказано – сделано. Не мудрено, если в отношении к призрачному правительству они склонны были к крайне упрощенным методам действия. 13 мая Совет постановил: «Единственной властью в Кронштадте является Совет рабочих и солдатских депутатов». Устранение правительственного комиссара, кадета Пепеляева, игравшего роль пятого колеса в телеге, прошло в крепости совершенно незамеченным. Сохранялся образцовый порядок. В городе была запрещена карточная игра, закрыты и выселены все притоны. Под угрозой «конфискации имущества и отсылки на фронт» Совет запретил появляться на улицах в пьяном виде. Угроза не раз приводилась в исполнение.
Закаленные в страшном режиме царского флота и морской крепости, привыкшие к суровой работе, к жертвам но и к неистовствам матросы теперь, когда перед ними приоткрылась завеса новой жизни, в которой они почувствовали себя будущими хозяевами, напрягли все свои сухожилия, чтобы показать себя достойными революции. Они жадно набрасывались в Петрограде на друзей и на противников и почти насильно влекли их в Кронштадт, чтобы показать, каковы революционные моряки на деле. Такое нравственное напряжение не могло, разумеется, длиться вечно, но его хватило надолго. Кронштадтские моряки стали чем-то вроде воинствующего ордена революции. Но какой? Не той, во всяком случае, какая воплощалась в министре Церетели с его комиссаром Пепеляевым. Кронштадт стоял как провозвестник надвигающейся второй революции. Поэтому его так ненавидели все те, для кого было слишком достаточно и первой.
Мирное и незаметное низложение Пепеляева было в прессе порядка изображено почти как вооруженное восстание против государственного единства. Правительство пожаловалось Совету. Совет сейчас же выделил делегацию для воздействия. Машина двоевластия со скрипом пришла в движение. 24 мая Кронштадтский Совет, с участием Церетели и Скобелева, согласился, по настоянию большевиков, признать, что, продолжая борьбу за власть советов, он практически обязан подчиняться Временному правительству, покуда власть советов не установлена во всей стране. Однако уже через день, под давлением возмущенных этой уступчивостью матросов, Совет заявил, что министры получили лишь «разъяснение» точки зрения Кронштадта, которая остается неизменной. Это было явной тактической ошибкой, за которой, однако, ничего не скрывалось, кроме революционной амбиции.
На верхах решено было воспользоваться счастливым случаем и дать кронштадтцам урок, заставив их заодно расплатиться и за прежние грехи. Прокурором выступал, конечно, Церетели. С патетическими ссылками на свои собственные тюрьмы он особенно громил кронштадтцев за то, что они держат в крепостных казематах 80 офицеров. Вся благомыслящая печать ему вторила. Однако даже соглашательские, т. е. министерские, газеты должны были признать, что дело идет о «форменных казнокрадах» и о «людях, до ужаса доводивших кулачную расправу». Матросы-свидетели, по словам «Известий», официоза самого Церетели «показывают о подавлении (арестованными офицерами) восстания 1906 года, о массовых расстрелах, о баржах, переполненных трупами казненных и потопленных в море, и о других ужасах… рассказывают совершенно просто, как обычные вещи».
Кронштадтцы упорно отказывались выдать арестованных правительству, которому палачи и казнокрады из благородного сословия были неизмеримо ближе, чем замученные матросы 1906-го и других годов. Не случайно же министр юстиции Переверзев, которого Суханов мягко называет «одной из подозрительных фигур в коалиционном правительстве», систематически освобождал из Петропавловской крепости наиболее гнусных деятелей царской жандармерии. Демократические выскочки больше всего стремились к тому, чтобы реакционная бюрократия признала их благородство.
На обвинения Церетели Кронштадтцы отвечали в своем воззвании: «Арестованные нами в дни революции офицеры, жандармы и полицейские сами заявили представителям правительства, что они ни в чем не могут пожаловаться на обращение с ними тюремного надзора. Правда, тюремные здания Кронштадта ужасны. Но это те самые тюрьмы, которые были построены царизмом для нас. Других у нас нет. И если мы содержим в этих тюрьмах врагов народа, то не из мести, а из соображений революционного самосохранения». 27 мая кронштадтцев судил Петроградский Совет. Выступая в их защиту, Троцкий предупреждал Церетели, что в случае контрреволюционной опасности, «когда контрреволюционный генерал попытается накинуть на шею революции петлю, кадеты будут намыливать веревку, а кронштадтские матросы явятся, чтобы бороться и умирать вместе с нами». Это предупреждение осуществилось через три месяца с неожиданной буквальностью: когда генерал Корнилов поднял восстание и повел войска на столицу, Керенский, Церетели и Скобелев вызвали кронштадтских матросов для охраны Зимнего дворца. Но что из того? В июне господа демократы защищали порядок от анархии, и никакие доводы и предсказания не имели над ними силы. Большинством в 580 голосов против 162 при 74 воздержавшихся Церетели провел в Петроградском Совете резолюцию, объявлявшую об отпадении «анархического» Кронштадта от революционной демократии. Как только нетерпеливо дожидавшийся Мариинский дворец был извещен, что булла отречения принята, правительство немедленно прервало телефонное сообщение между столицей и крепостью для частных лиц, чтобы не дать большевистскому центру возможности воздействовать на кронштадтцев, приказало сейчас же вывести из вод Кронштадта все учебные суда и потребовало от Совета «беспрекословного повиновения». Заседавший в те дни съезд крестьянских депутатов пригрозил «отказать кронштадтцам в продуктах потребления». Стоявшая за спиной соглашателей реакция искала решительной и, по возможности, кровавой развязки. «Опрометчивый шаг Кронштадтского Совета, – пишет один из молодых историков, Югов, – мог вызвать нежелательные последствия. Нужно было найти подходящий путь для выхода из создавшегося положения. Именно с этой целью в Кронштадт и поехал Троцкий, где выступил в Совете и написал декларацию, которая и была принята Советом и затем – единогласно – проведена Троцким на митинге на Якорной площади». Сохранив свою принципиальную позицию, кронштадтцы уступили в практических вопросах.