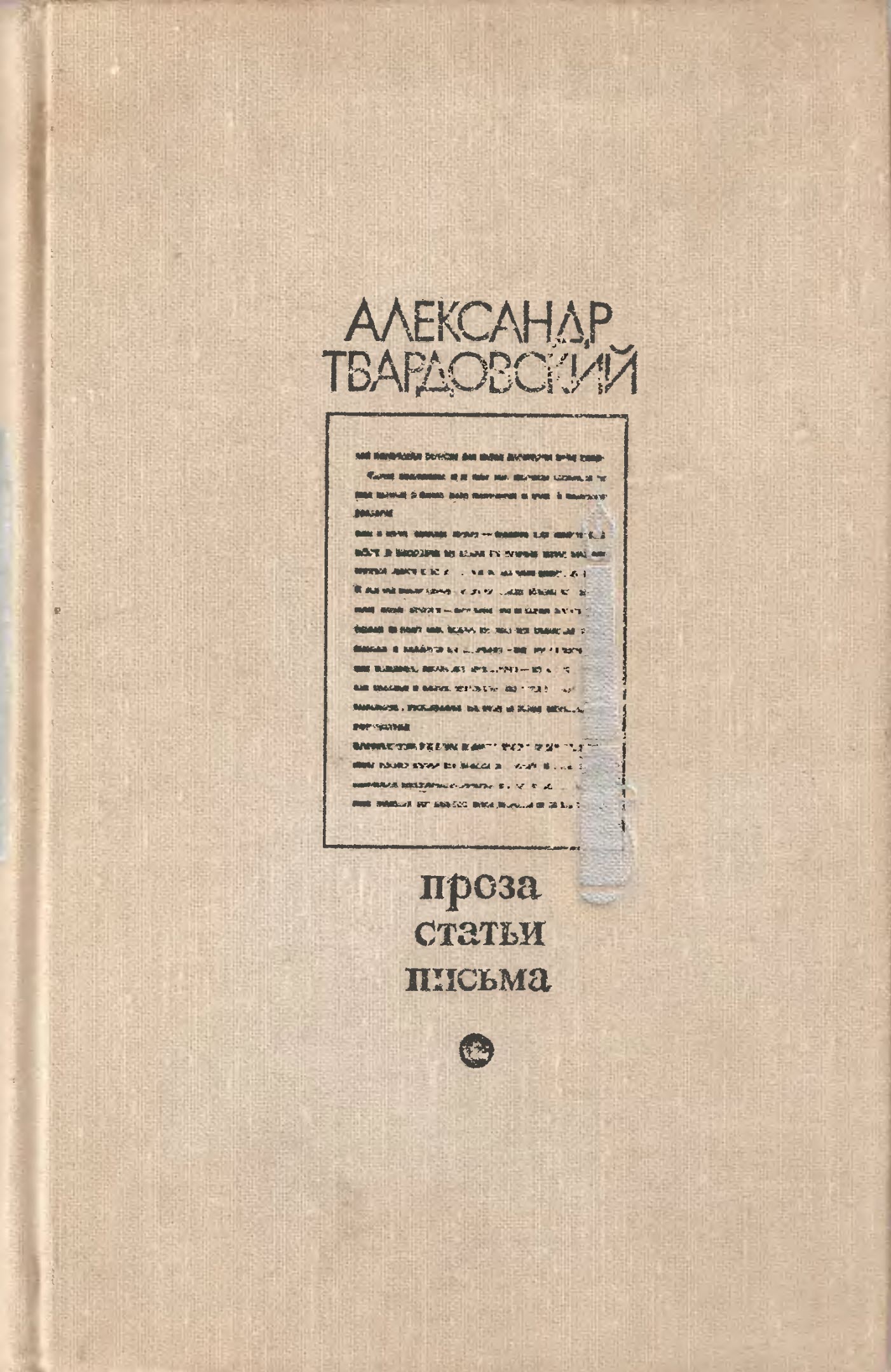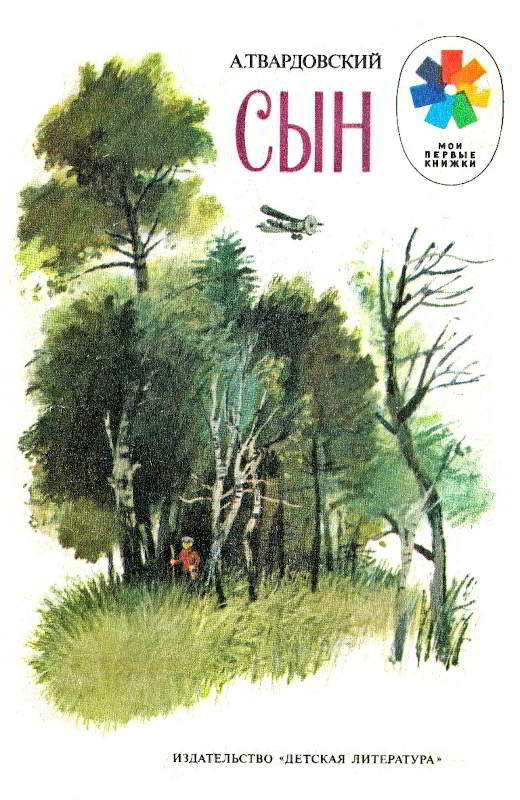сохранность, — сигнализации, бдительности водителей, надежности тормозов и т. д. И при всем этом ты все-таки можешь попасть под трамвай, под автомашину, быть убитым, изувеченным или легко раненным. Но легко относишься к этой возможности, минующей тебя день за днем, год за годом. Конечно, статистика жертв уличного движения и статистика жертв войны — вещи очень разные, но в привычке к опасности на войне есть нечто похожее на привычку бывалого столичного пешехода.
Еще замечается, что чувство страха злее и неотвязнее при наличии некоторых благоприятствующих ему моментов — плохого настроения, недовольства собой. А казалось бы, здесь наоборот, — нет! И гораздо слабее при общем хорошем самочувствии, осознании себя на своем месте («если и убит буду, я не виноват»), чувстве долга и вообще чего-то хорошего за собой — верности, честности, незаурядности. Решающее же дело — ответственность за множество людей, подчиненных, доверенных и доверившихся тебе, видящих в тебе образец. Наконец, реальная, практическая возможность огрызнуться — при всей условности этого в современной войне, — ответить тому безымянному и невидимому, что посылает тебе смерть, страх, смертью же и страхом.
Дороги хорошие, но узкие, рассчитанные только на гужевой транспорт. Тишина полей с перестоявшим уже урожаем. Мужики и бабы, не говорящие по-русски, косят рожь. Косят не с лапкой, а с гладкой дужкой из прутика у косы и кладут подкашиваемую горсть на ниву, а не от нивы, как у нас. Здоровенные девки в усадьбах стригут овец и так быстро и грубо действуют большими пружинистыми ножнями, что кажется — вот-вот хватанут за живое, но нет: щелкает ножнями, сваливая шерсть шубой, как будто свежуя овцу, а та лежит, бледно-голубая, страшно уменьшаясь в размерах. Запах ржаной и яровой соломы по гумнам, запах жирной, немытой шерсти по дворам.
Дорога лесом — то сухая, обдуваемая сосновой сушью и гарью от свежих выжигов на лесосеках, то свежая, прохладная в сырой тени, с песком, как после дождя, шумящим под колесами.
Места, где война прошла, не поразогнав людей, нс обезобразив землю. Августовская, любимая с детства пора, что так подходит теперь и к возрасту.
Только теперь, кажется, научился любить природу, не только загорьевскую, смоленскую, не только даже русскую, а всю, какая есть на божьем свете. Любить, не боясь в чем-то утратиться, не изменяя ничему и не томясь изменой, — свободно.
* * *
А наши, русские девки и бабы с детишками и подростками, — орловские, брянские, смоленские — бредут, бредут оттуда, из-за Немана, по этим проселкам, где войной и не натоптано как следует. Бредут к родным местам, точно торопятся еще поспеть к жнитву, к уборке, — кругом-то хлеб, труд, тишина. Бредут к обгорелым трубам, к пепелищам, незажитому горю, которого многие из них еще целиком и не представляют себе, какое оно там ждет их.
Раненые. Солдат на грузовике с длинноносым, небритым, суровым и испуганным лицом, рука на перевязи, другою держится за борт, поминутно как будто сплевывает что-то изо рта: «Тьфу, тьфу…»
Полковник, трясущийся на телеге на руках у санитара, может быть ординарца. На груди и шее что-то свежекровавое, какие-то тряпки, — вглядываться не станешь…
Пешие, на машинах, одиночками и группами. Кровь — конец строгости в одежде. Он уже может идти без пояса, с нижней рубахой, выбившейся из штанов, с распоротым рукавом, без шапки.
Огневой налет на деревушку, откуда все раненые, видимый в полной жуткой натуре: лес, темно-сизый, кудлатый, вдруг выросший и вдруг рассыпавшийся в пыль по горизонту…
* * *
Дом в лесу, пустой, захламленный, должно быть, немцами-ночлежниками. Вытоптанный малинник и грядки огурцов, поломанные ульи, кучки гусиных перьев в крови под яблонями. Внутри дома все настежь. Сено на домашних диванах. Кости, корки хлеба, огрызки яблок, раздавленный на полу отварной картофель.
И запах откуда-то, не то из подвала, не то с чердака, запах, который всегда отличишь, — трупный.
Осенью 1944 года мне случилось совершить поездку с фронта далеко на восток, по пути, пройденному нашими войсками в горячие месяцы летнего наступления. Собрались мы в дорогу утром на подворье одной прифронтовой литовской усадьбы, откуда можно еще было отчетливо слышать артиллерийскую пальбу. Но уже эта усадьба была тылом, война прошла ее, почти не нарушив ладной, медлительной жизни маленького крестьянского мирка.
Утром вместе с нами на усадьбе поднялись какие-то ездовые и стали запрягать. Им нужно было на запад, к фронту, нам — на восток. Хозяин, маленький, усатый мужчина в толстом вязаном жилете и в шляпе, погромыхивая деревянными подошвами хожалых башмаков без задников, сошел с крылечка, прошел по разбитой кирпичной дорожке вдоль скотного двора и сараев. Повозки обозных еще не тронулись, бойцы, поеживаясь от утренней сентябрьской ядрености, грелись дымом — курили. Литовец взялся было убирать натоптанное и перебитое с навозом сено, где стояли кони, но, словно почувствовав невежливость такой спешки, оставил грабли. «Виллис» наш задом выкатился из ворот сарая и с дымом проложил след по росистой усадебной травке. Хозяин начал закладывать подворотню, мы подождали, чтобы проститься с ним, и через минуту выкатили на мягкую полевую дорожку, что вела на шоссе…
В сводке Информбюро в этот день говорилось, что на участке нашего фронта поиски разведчиков и артиллерийская перестрелка. А одна из страниц фронтовой газеты рассказывала о наших автоматчиках, окопавшихся на том берегу Шешупы, на немецкой земле.
И мысль об этих людях долго не покидала нас в дороге. Узкое шоссе огибало крутые выступы лесистого берега Немана. Темная, по-осеннему тяжелая вода реки шла справа, то в отдалении, то совсем близко, у белых столбиков дороги. И как будто эта вода, от которой прохватывало густой, пронизывающей свежестью, не давала забыть о такой же по-осеннему неприветливой воде Шешупы, которую на днях перешли наши ребята по зыбким, глубоко затопленным доскам маленькой переправы.
Один из них воевал уже три с половиной года. Три с половиной года шел он по земле, сотрясаемой ужасными толчками разрывов, по земле изрытой, вскопанной и перекопанной, — и то была все своя, родная, советская земля.
Он отступал на восток, оставляя за собой сотни, а где и тысячи километров земли, что ложилась под колеса и гусеницы вражеских войск, — и то все была своя, родная, советская земля.
Три зимы и четыре лета он зябнул на ней, томился от жары и пыли, страдал, переносил муки смертельного страха, лежал, может быть, на пей раненый, хоронил в ней павших товарищей, — и то все была своя, русская земля.
На ней он изведал великую