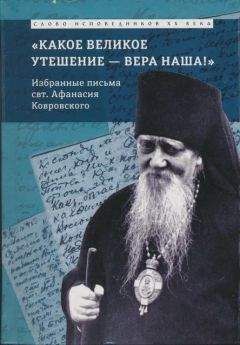Протоиерей Павел Хондзинский
«Ныне все мы болеем теологией». Из истории русского богословия предсинодальной эпохи
Рекомендовано для издания Богословским факультетом Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета
Рецензенты:
д-р филос. наук О. В. Марченко
д-р ист. наук, д-р церковной истории Н. Ю. Сухова
© Хондзинский П. В., 2013
© Оформление. Издательство Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 2013
Неисчерпаемость прошлого сродни неисчерпаемости вещества. Добросовестный в своем деле историк, как и добросовестный естествоиспытатель, со смирением признаёт это. Новые факты противоречат известным. Очевидная достоверность официальных документов не согласуется с не менее очевидной искренностью частных свидетельств. Взаимозависимость идей представляется случайным сходством из-за невозможности восстановить посредующие связи. В итоге самые глубокие исторические концепции обречены на горькую судьбу гипотез. Проходит время – их сменяют другие.
Для одних это делает бессмысленным занятия историей; для других – лишь указывает на то, что ее содержание и смысл вполне обнаружат себя лишь за гранью этого мира, где замысел Божий о творении и о каждом человеке откроется как единое действие Любви. С этой точки зрения новые концепции-гипотезы вовсе не обязательно должны ниспровергать уже существующие, но непременно – давать возможность дополнительного обзора, подобно тому как более или менее полное представление о предмете возможно получить, лишь делая его зарисовки с разных сторон.
Сказанное относится как к истории государств и цивилизаций, так и к истории философских или богословских идей. О последних и пойдет речь.
Общепринятый сегодня взгляд на историю русского богословия XVII–XVIII веков представлен еще в «Путях русского богословия» о. Георгия Флоровского и сводится к представлению о пребывании русской традиции в плену западной схоластической мысли. Этот взгляд сложился некогда на стыке религиозной философии и собственно богословской науки. Причем споры западников и славянофилов предшествовали монографиям Червяковского[1], Шляпкина[2], Прозоровского[3], Тихомирова[4], Сменцовского[5], Харламповича[6], Терновского[7], Мирковича[8], Чистовича[9] и других.
Названные авторы (и не только они) немало и добросовестно потрудились для собирания фактов и документов предсинодальной эпохи. Многие из этих материалов они опубликовали в обширных приложениях к своим монографиям, позволяя тем самым своим преемникам не только опираться на их выводы, но и проверять их. К сожалению, интерес к русскому богословию XVII–XVIII веков пробудился практически накануне революционных событий[10], и многое не было сделано[11]. Наша традиция до сих пор не имеет своего «Миня», без которого трудно составить себе общее представление о ней. Однако в том, что это так, виноваты не только революции и войны XX века.
Если общий ход западноевропейской истории характеризовался постепенной секуляризацией жизни, а значит, и быта или постепенным переходом от быта сакрального к быту секулярному, то своеобразие синодальной эпохи состояло в «двоебытии», своего рода «контрастной полифонии» церковного и секулярного быта, следствием чего явилось «расщепление» нации на «общество» и «народ». Несмотря на все «диссонансы», эта «полифония» приближалась к точке гармонического разрешения в Александровскую эпоху, объединившую Россию представлением о библейских масштабах событий 1812 года. Позднее это единство выразилось в концепции «России – Нового Израиля», принадлежавшей святителю Филарету. Оно же, это единство, дало как бы повторную христианскую «закваску» светской культуре (если рассматривать ее, в согласии с мыслью о. Павла Флоренского, как отделившуюся и зажившую самостоятельной жизнью производную культа[12]).
Сложившийся в этой литературно-философской среде круг идей ощутимо повлиял и на деятелей Церкви. Представления о народе-богоносце, где богоносец подразумевало прежде всего бытоносец, казалось бы вполне православные, своим следствием имели противопоставление в общественно-церковном сознании «Руси» и «России». «Пусть погибнет Россия, но будет сохранена Русь, – писал владыка Антоний Храповицкий, – погибнет Петроград, но не погибнет обитель преподобного Сергия; погибнет русская столица, но не погибнет русская деревня…»[13]
Религиозно-философская мысль предреволюционной эпохи есть во многом следствие этого «вторичного расщепления», совершившегося уже не в общественном пространстве (общество – народ), но в историческом времени (Русь – Россия). Именно эта мысль, оглядываясь назад, видела в своих предшественниках лишь эпигонство, схоластику, «богословие на сваях»[14].
Впрочем, еще в 40-х годах XIX столетия была написана работа, впервые в традиции соединившая в себе черты историко-богословского и религиозно-философского осмысления русской традиции начала XVIII века и ставшая тем зерном, из которого позднее проросли и «Пути русского богословия». Правда, известна читателю она стала тогда, когда порожденное ею движение мысли в известном смысле обогнало ее.
В 1880 году в свет вышел пятый том посмертного собрания сочинений Юрия Федоровича Самарина, где была напечатана его диссертация «Стефан Яворский и Феофан Прокопович».
Когда-то Юрий Федорович смог защитить и издать только одну ее часть – «Стефан Яворский и Феофан Прокопович как проповедники», надо признать, не самую интересную и сохранившую богословско-историческую концепцию автора лишь в виде приложенных к изданию 1844 года[15] кратких тезисов. К 80-м годам XIX века имя Юрия Федоровича уже заняло свое прочное место рядом с именем Алексея Степановича Хомякова – как имя одного из «отцов-основателей» славянофильства. Казалось, полная публикация основного его труда, где была предложена, по сути дела, первая в синодальную эпоху целостная концепция русской церковной истории и богословской традиции, должна была бы привлечь всеобщее внимание, однако, судя по всему, она прошла почти незамеченной[16]. Эта странность, на первый взгляд незначительная, при ближайшем рассмотрении оказывается верхушкой айсберга, скрывающего в глубине фундаментальные проблемы русской богословской мысли. Чтобы вникнуть в них, надо не только уяснить себе суть самаринской «системы», но и постараться соотнести ее с той жизнью, которую она стремилась вместить в себя.
Сам Юрий Федорович, прочитав слово «система», огорчился бы. Он был принципиальным противником всяких «систем»[17] и считал их присущими только западному, но не православному богословию, парадоксальным образом в то же время придав своему труду законченно систематический вид.
Автор сразу провозглашает своей целью установить «общие начала, которыми условилась деятельность Стефана Яворского и Феофана Прокоповича во всех родах»[18].
Эти начала, в свою очередь, выводятся из еще более общих начал, которыми, очевидно, определяется ход церковной истории: «От православной церкви отпал Западный мир Европы и, выразивши притязание быть церковью, явил католицизм. Католицизм, в свою очередь, заключая в себе противоречие, вызвал его к проявлению в форме протестантизма. На эти два начала распался Западный мир Европы; их борьбою условливается доселе его развитие»[19].
Католицизм сохранил понятие о Церкви, но по причине практической направленности западной жизни вообще это единство осуществилось в конечном счете в виде государства. Символом этого политического единства, являющего с точки зрения Запада единство церковное, и стал папа: «Откровение, как факт совершившийся, конченный, полное сознание истины и вытекающая отсюда непогрешимость признаны были в нем постоянно-присущими и в равной степени полноты и совершенства переходящими от одного наместника святого Петра к другому»[20]. Из этой же практической направленности следовало и то, что жизнь свелась в католицизме к развитию государственности и науки, отлитых в церковные формы.
Протестантизм «освободил науку и государство»[21] из застылых церковных форм, но, отрицая их, сделался отрицателем самой Церкви.
«Итак, в католицизме предстает нам идея единства; но эта идея, понятая отвлеченно и заключенная в символ, не проникает христианского человечества. Напротив того, в протестантизме являются отдельные, частные лица, с живым религиозным стремлением, но неспособные вознестись до общего и потому разобщенные между собой»[22].