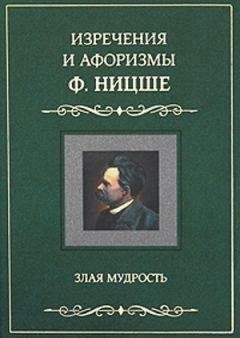Жестокость бесчувственного человека есть антипод сострадания; жестокость чувствительного – более высокая потенция сострадания.
Радость от ущерба, нанесенного другому, представляет собою нечто иное, чем жестокость; последняя есть наслаждение, причиняемое состраданием, и достигает крайней точки при кульминации самого сострадания (в том случае, когда мы любим того, кого пытаем). Если кто-то другой причинил бы боль тому, кого мы любим, тогда мы пришли бы в бешенство, и сострадание было бы крайне болезненным. Но мы любим его, и боль ему причиняем мы. Оттого сострадание делается чудовищно сладким: оно есть противоречие двух контрастных и сильных инстинктов, действующее здесь в высшей степени возбуждающе. – Причинение себе телесного повреждения и похоть, уживающиеся друг с другом, суть одно и то же. Или просветленнейшее сознание при свинцовой тяжести и неподвижности после опиума.
Есть много жестоких людей, которые лишь чересчур трусливы для жестокости.
Где всегда добровольно берут на себя страдания, там вольны также доставлять себе этим удовольствие.
Если обладаешь волей к страданию, то это лишь шаг к тому, чтобы возобладать и волей, к жестокости, – именно в качестве как права, так и долга.
Посредством доброй воли к помощи, состраданию, подчинению, отказу от личных притязаний даже незначительные и поверхностные люди внешне делаются полезными и сносными. Не следует только разубеждать их в том, что эта воля есть «сама добродетель».
Прекраснейшие цвета, которыми светятся добродетели, выдуманы теми, кому их недоставало. Откуда, например, берет свое начало бархатный глянец доброты и сострадания? – Наверняка не от добрых и сострадательных.
У язвительного человека чувство пробивается наружу редко, но всегда очень громко.
Всяким маленьким счастьем надлежит пользоваться, как больной постелью: для выздоровления – и никак иначе.
Там, где дело идет о большом благополучии, следует накоплять свою репутацию.
«Не будем говорить об этом!» – «Друг, об этом мы не вправе даже молчать».
Бюргерские и рыцарские добродетели не понимают друг друга и чернят друг друга.
Моя третья человеческая мудрость в том, что ваша боязливость не делает для меня противным вид злых людей.
Почти с колыбели дают уже нам в наследство тяжелые слова и тяжелые ценности: «добро» и «зло» – так называется это приданое. И ради них прощают нам то, что живем мы.
Никто не знает еще, что добро и что зло, – если сам он не есть созидающий.
О, эти добрые! – Добрые люди никогда не говорят правды; для духа быть таким добрым – болезнь.
Есть старое безумие, оно называется добро и зло. Вокруг прорицателей и звездочетов вращалось до сих пор колесо этого безумия.
С насмешливой злобой смотрим мы на то, что называется «идеалами»; мы презираем себя лишь за то, что не всегда можем подавить в себе то нелепое движение чувства, которое называется идеализмом.
В ребенке вашем вся ваша любовь, в нем же и вся ваша добродетель.
Не будьте добродетельны свыше сил своих! И не требуйте от себя ничего невероятного!
Ходите по стопам, по которым уже ходила добродетель отцов ваших! Как могли бы вы подняться высоко, если бы воля отцов ваших не поднималась с вами?
Убивают не гневом, а смехом.
Добродетель есть наше великое недоразумение.
Мы по ту сторону добра и зла, но мы требуем безусловного признания святыни стадной морали.
Все добродетели, в сущности, не что иное, как утонченные страсти и повышенные состояния.
Сострадание и любовь к человечеству как известная степень развития полового влечения.
Справедливость как развитой инстинкт мести. Добродетель как удовольствие от сопротивления, воля к власти. Честь как признание сходного и равно могущественного.
Под «моралью» я понимаю систему оценок, имеющую корни в жизненных условиях известного существа.
Кто знает, как возникает всякая слава, тот будет относиться подозрительно и к той славе, которой пользуется добродетель.
Мораль столь же «безнравственна», как любая иная вещь на земле. Сама моральность есть форма безнравственности .
Опираясь исключительно на добродетель, нельзя утвердить господство добродетели; когда опираются на добродетель, то отказываются от власти, утрачивают волю к власти.
Нужно защищать добродетель против проповедников добродетели: это ее злейшие враги. Ибо они проповедуют добродетель как идеал для всех; они отнимают у добродетели прелесть чего-то редкого, неподражаемого, исключительного, незаурядного – ее аристократическое обаяние.
Добродетель остается самым дорогим пороком: пусть она им и остается!
Кому добродетель достается легко, тот даже смеется над ней. В добродетели невозможно сохранить серьезность: достигнув ее, сейчас же спешат прыгнуть дальше – куда? В чертовщину.
Нужно связать порок с чем-нибудь явно мучительным так, чтобы заставить бежать от порока, с целью избавиться от того, что с ним связано.
Творим людей по подобию нашего Бога
Даже у Бога есть свой ад – это любовь его к людям.
Бог мертв; из-за сострадания своего к людям умер Бог.
На коленях взбирайтесь по лестнице, вы, грешники!
Только красота должна проповедовать покаяние.
Истина существует: ибо существует народ! Горе, горе ищущему!
Если должен ты быть слугою, ищи того, кому твоя служба всего дороже.
Быть может, в склонности позволять унижать себя, обкрадывать, обманывать, эксплуатировать проявляется стыдливость некоего Бога среди людей.
Разъяснившаяся вещь перестает интересовать нас – Что имел в виду тот бог, который давал совет: «познай самого себя»! Может быть, это значило: «перестань интересоваться собою, стань объективным»! – А Сократ? – А «человек науки»?
В наше время познающий легко может почувствовать себя животным превращением божества.
В мире самые лучшие вещи ничего еще не стоят, если никто не представляет их; великими людьми называет народ этих представителей.
Вокруг изобретателей новых ценностей вращается мир – незримо вращается он. Но вокруг комедиантов вращается народ и слава – таков порядок мира.
Базар полон праздничными скоморохами – и народ хвалится своими великими людьми! Для него они – господа минуты.
Вы, сегодня еще одинокие, вы, живущие вдали, вы будете некогда народом: от вас, избравших самих себя, должен произойти народ избранный, и от него – сверхчеловек.
Бог есть предположение, но я хочу, чтобы ваше предположение простиралось не дальше, чем ваша созидающая воля.
Бог есть предположение; но я хочу, чтобы ваше предположение было ограничено рамками мыслимого.
Бог есть мысль, которая делает все прямое кривым и все, что стоит, вращающимся.
Бесчестнее всего люди относятся к своему Богу; он не смеет грешить.
Не человеколюбие, а бессилие их человеколюбия мешает нынешним христианам предавать нас сожжению.
Свободомыслящему, «благочестивцу познания», еще более противна pia fraus (противна его «благочестию»), чем impia fraus. Отсюда его глубокое непонимание церкви, свойственное типу «свободомыслящих», – как его несвобода.
Кто чувствует себя предназначенным для созерцания, а не для веры, для того все верующие слишком шумливы и назойливы, – он обороняется от них.
Что Бог научился греческому, когда захотел стать писателем, в этом заключается большая утонченность – как и в том, что он не научился ему лучше.
Народ есть окольный путь природы, чтобы прийти к шести-семи великим людям. – Да, – и чтобы потом обойти их.
У черта открываются на Бога самые широкие перспективы; оттого он и держится подальше от него – черт ведь и есть закадычный друг познания.
Брюхо служит причиной того, что человеку не так-то легко возомнить себя Богом.
Вокруг героя все становится трагедией, вокруг полубога все становится драмой сатиров, а вокруг Бога все становится – как? быть может, «миром»?