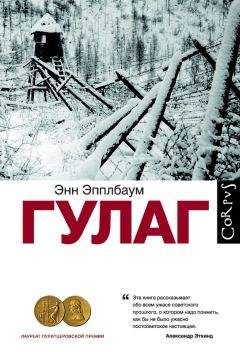В санчастях маленьких лагпунктов все было намного хуже. Как правило, врачам удавалось поддерживать лишь весьма относительный уровень стерильности и асептики.[1026] Больницы нередко представляли собой обычные бараки с койками, а иногда пациентов клали по двое на одну койку. Набор лекарство часто был минимальным. В результате прокурорской проверки одного маленького лагеря было установлено, что в нем нет особого больничного здания, пациентам не предоставляется постельное и нательное белье, нет лекарств, нет квалифицированного медперсонала. Поэтому смертность была чрезвычайно высока.[1027]
Воспоминания лагерников свидетельствуют о том же. Исаак Фогельфангер, который был главным хирургом лагерной больницы, пишет о небольшой санчасти одного из лагпунктов Севураллага, что «лечение и отчетность там никуда не годились». Кроме того, «питание было совершенно недостаточным, и остро не хватало медикаментов. Больным с переломами и обширными повреждениями мягких тканей, подлежавшим хиругическому лечению, не оказывалось необходимой помощи. Редко, как я потом выяснил, пациентов выписывали в работоспособном состоянии. Попадая в больницу с выраженными симптомами истощения, люди в большинстве своем там умирали».[1028]
Поляк Ежи Гликсман вспоминал, что в одном лагпункте заключенные фактически лежали на полу вповалку: «Все проходы были заполнены телами лежащих. Повсюду грязь, мерзость. Многие пациенты бредили, издавали бессвязные крики, другие лежали бледные, неподвижные».[1029]
Еще хуже было в бараках для неизлечимо больных, которые смело можно было назвать (и называли) мертвецкими. В одном таком бараке для дизентерийных «пациенты лежали неделями. Кому сильно везло, выздоравливали. Но чаще умирали. Не было ни ухода, ни лекарств. <…> Чью-либо смерть пациенты обычно старались скрывать три-четыре дня, чтобы получать паек умершего».[1030]
Бюрократические препоны усугубляли положение. В 1940 году по результатам проверки было отмечено, что в одном лагере не хватало коек для больных, и поскольку пациентам, не находящимся в больнице, не полагалось больничного пайка, те, кому не досталось в ней места, получали урезанный паек «отказчиков».
Хотя многие лагерные врачи всеми силами старались спасать человеческие жизни, от некоторых помощи было мало. Иные, находясь в привилегированном положении, больше думали, как угодить начальству, чем о «врагах народа», которых они должны были лечить. Элинор Липпер вспоминала главного врача больницы на пятьсот пациентов: «Она вела себя как помещица царских времен. Весь персонал больницы она считала своими личными слугами. Как-то раз ухватила санитара, допустившего оплошность, за волосы и дернула так, что он закричал от боли».[1031] В другом лагере жена начальника, работавшая врачом в больнице, получила порицание от проверяющих за то, что она слишком долго не госпитализировала тяжелобольных, не освобождала заболевших от работы, вела себя грубо, выгоняла из больницы невылеченных людей.
Иногда врачи сознательно отказывали пациентам-зэкам в необходимом лечении. В 1956-м в Горлаге Леонид Трус получил тяжелую производственную травму. Была очень сильно повреждена нога. Лагерный врач только наложил жгут, чтобы остановить кровотечение, но этого было мало. Трус потерял много крови и страшно замерз. Из лагеря его отвезли в Норильск в городскую больницу. Находясь в полубессознательном состоянии, он услышал, как врач велит сестре готовить переливание крови. Тем временем сопровождающие сообщали его данные: имя, фамилию, пол, возраст, место работы. Узнав, что он зэк, медики «тут же оставили всю работу и сказали: „Мы заключенным помощь не оказываем“». Труса перевезли в лагерную больницу, и там за взятку ему ввели глюкозу и морфий. Переливание крови никто делать не стал. На следующее утро ногу ампутировали. «Мое состояние было настолько плохое, — рассказал он мне во время интервью, — что хирург считал, что я все равно жить не буду, и поэтому он сам даже не стал делать операцию, а дал попрактиковаться своей жене, которая была не хирургом, а терапевтом, но он хотел, чтобы она приобрела квалификацию хирурга. <…> Правда, потом мне сказали, что она сделала все очень хорошо, грамотно, за исключением каких-то деталей, которые она сделала не то что неаккуратно, она просто не думала, что я буду жить, и поэтому ей это было совершенно безразлично. И вот я остался жив!».
Не все лагерные врачи, независимо от доброты, имели достаточную квалификацию. В их числе были как ведущие московские специалисты, отбывавшие лагерный срок, так и невежды, не разбиравшиеся в медицине и просто стремившиеся получить относительно теплое местечко. Еще в 1932 году ОГПУ сетовало на нехватку квалифицированного медперсонала. Вследствие этого заключенные, имевшие диплом врача, были исключением из правил, касавшихся назначения на придурочные должности: за какую бы «контрреволюционную террористическую деятельность» они ни были осуждены, им почти всегда разрешали лечить больных.
Из-за дефицита кадров заключенных учили на медсестер и фельдшеров — учили чаще всего наспех и самому элементарному. Евгения Гинзбург стала «медперсоной» после всего нескольких дней в лагерной больнице, где ее научили ставить банки и делать инъекции93. Александр Долган, которого научили в лагере основам фельдшерской работы, прошел проверку в другом лагере. Начальник, сомневавшийся в его квалификации, велел ему сделать вскрытие, и он «разыграл наилучший спектакль, какой только мог, всем своим видом показывая, что делал это много раз».[1032] Януш Бардах, чтобы получить должность фельдшера, тоже солгал: сказал, что учился на третьем курсе медицинского факультета, тогда как на самом деле еще даже не поступил в университет.[1033]
Результаты были предсказуемы. Заняв в Севураллаге свою первую должность лагерного врача, квалифицированный хирург Исаак Фогельфангер с изумлением обнаружил, что цинготные волдыри, вызванные не инфекцией, а истощением, тамошний фельдшер лечит йодом. Позднее он увидел, как несколько пациентов умерло, потому что безграмотный врач велел ввести им раствор обычного сахара.[1034]
Все это наверняка было известно лагерным начальникам, один из которых в письме московскому руководству сетовал на нехватку врачей, на то, что в некоторых лагпунктах медицинскую помощь заключенным оказывают неквалифицированные самоучки. Другой писал, что лагерная медицина противоречит всем принципам советского здравоохранения.[1035] Начальство все знало, заключенные все знали и тем не менее в лагерных больницах ничего не менялось к лучшему.
Но несмотря на все это — на продажность врачей, на плохую подготовку младшего персонала, на нехватку медикаментов, — жизнь в больнице или изоляторе была для зэков настолько привлекательна, что ради попадания туда они готовы были не только угрожать врачам, но и калечить себя самих. Как солдаты, не желающие идти в бой, заключенные, пытаясь спасти себе жизнь, наносили себе увечья, симулировали или нарочно вызывали болезни — делались «саморубами» или «мастырщиками». Некоторые надеялись таким образом получить освобождение или амнистию по инвалидности. Столь многие в это верили, что ГУЛАГ, по крайней мере в одном случае, объявил, что инвалидов и слабосильных досрочно выпускать не будут (хотя в некоторых случаях их выпускали).[1036] Однако большинство просто хотело освободиться от работы.
Наказание за членовредительство было суровым — новый срок. Ведь инвалид — обуза для государства и помеха выполнению плана. «Саморубы карались жестоко — как саботаж», — пишет Анатолий Жигулин. Один бывший заключенный пишет об уголовнике, отрубившем себе топором четыре пальца на левой руке. Но в инвалидный лагерь его не отправили — заставили сидеть на снегу и смотреть, как другие работают. «Если бы, замерзая, он попробовал встать размяться <…> его бы немедленно застрелили „при попытке к бегству <…>“. Очень скоро он сам попросил дать ему лопату и, придерживая ее, как крючком, единственным уцелевшим пальцем левой руки, кидал мерзлую землю, плача и ругаясь».
Тем не менее многие заключенные считали, что игра стоит свеч. Себя при этом не жалели. Блатные часто отрубали себе три средних пальца руки — без них нельзя было работать на лесоповале или катить тачку на приисках. Случалось, человек отрубал себе ступню или кисть руки, выжигал глаза кислотой. Некоторые, идя в мороз на работу, обматывали ступню мокрой тряпкой. Возвращались с обморожением третьей степени. Так же поступали с пальцами рук. В 60-е годы Анатолий Марченко видел, как заключенный прибил свою мошонку к тюремной скамье.[1037]