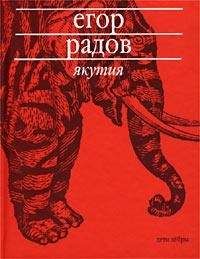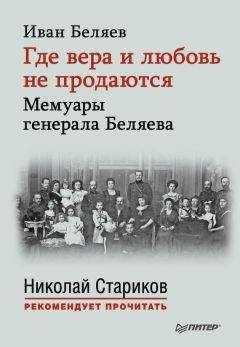В феврале 1919 года юная генеральша, оставив пятилетнего сына в Томске со свекровью, приехала в недавно взятую войсками ее мужа Пермь. Из жены безработного офицера, вынужденного перебиваться «частным заработком», детали которого он предпочитал не уточнять, поскольку гордиться тут, видимо, было нечем, Нина Ивановна в свои двадцать шесть лет превратилась в первую леди Восточного фронта.
В Перми ей отвели апартаменты в роскошном здании Волжско-Камского банка, приставили свиту из влиятельных в городе дам. Ее непритязательное замечание о том, что раненым тесно в городских больницах и неплохо бы устроить для них отдельный госпиталь, в прессе подается как блестящая свежая мысль. Подобострастно, словно она предложила нечто такое, до чего никто без нее додуматься не мог, сообщается: «Идею открытия дополнительных лечебных учреждений, высказанную г-жой Пепеляевой, подхватили местные общественные деятельницы».
Скоро городские газеты напечатали объявление: «В пятницу 28-го февраля 1919 года женой командира 1-го Средне-Сибирского корпуса Н. И. Пепеляевой устраивается музыкальный вечер. 75 % сбора от вечера поступит на устройство госпиталя для раненых и больных воинов, а 25 % – на приобретение необходимых для библиотеки Александровской гимназии книг».
Все хлопоты взяли на себя библиотекарши женской гимназии, за что и выторговали четвертую часть от суммы сбора. Организованный ими вечер с концертной программой и танцами состоялся в здании Благородного собрания и, по уверениям публики, оказался «лучшим из вечеров сезона». После года жизни при военном коммунизме пермяки жаждали развлечений, которые лишь маскировались под разного рода благотворительные акции.
Коммерческий успех вечера превзошел все ожидания. Нина Ивановна лично провела лотерею. В качестве призов разыгрывались пожертвованные будущему госпиталю вещи, довольно бессмысленные с точки зрения «пользы больных и раненых воинов»: два «тиковых чехла» непонятного назначения, дюжина пар дамских перчаток, пять мешков, двадцать одна диванная подушка, «дорожка на качалку» и т. п., но эти малособлазнительные лоты объявляла супруга «сибирского Суворова», так что лотерея дала неплохой результат.
Какие-то деньги в виде штрафов удалось получить с тех гостей, кто явился в обычном, а не в «национальном костюме», как требовала надпись на пригласительном билете. По сообщению газеты «Свободная Пермь», в национальных костюмах «не было почти никого», так что тут можно заподозрить хитрость устроительниц, на то и рассчитывавших. Наибольшая часть выручки поступила от продажи билетов, от буфета, лотков с папиросами и «сверхпрограммного выступления г-жи Борегар в монологе Мансфельда “Сон”, которое было куплено публикой за 2600 р. путем американского аукциона». Самым прибыльным оказался «аукцион бутылки шампанского» – ее купили за пятнадцать тысяч рублей, а общий сбор составил около пятидесяти тысяч.
Нина Ивановна царила на этом празднике жизни с шампанским и танцами, но мужа рядом с ней не было, хотя в тот вечер он находился не на позициях. Наутро ему предстояло провожать на фронт только что сформированную Пермскую дивизию, ночевал он в городе, но на праздник, где жена впервые в жизни была королевой бала, не пришел, и едва ли только по причине занятости. «Не люблю веселье, легкомысленность», – писал он с явной мыслью о том, что серьезность и нравственность – близкие понятия.
Правда, через десять дней супруги присутствовали на открытии в Мариинской женской гимназии «лазарета имени А. Н. и Н. И. Пепеляевых» (на госпиталь средств не хватило). Пепеляев произнес короткую речь об успехах на фронте, «произвел обход раненых», очень недолго посидел за завтраком и ушел, оставив Нину Ивановну допивать чай в компании местных «общественных деятельниц».
Это последнее, что можно узнать о ней из пермских газет. После открытия лазарета она вернулась в Томск и снова увидела мужа только в страшном для него ноябре 1919 года. Под Новый год опять расстались и, если не считать свидания в Верхнеудинске (она – после тюрьмы, он – после тифа), встретились уже в Харбине. Там и началась их настоящая семейная жизнь.
Они были женаты семь с лишним лет, а вместе прожили от силы два. Виделись урывками, и теперь каждый обнаружил, как сильно за эти годы изменился другой. Он привык повелевать, она – быть независимой. Он пережил взлет и славу, утрату надежд, поражение, бегство, гибель братьев, она – невеселые годы одиночества зрелой женщины. Он был опустошен, ей хотелось внимания к себе. Копились обиды. Вероятно, во время одной из ссор у Нины вырвалось признание, о котором Пепеляев вспомнит в письме к ней, написанном в Якутии, но попавшем не к жене, а в его следственное дело: «Сильную душевную драму пережил я, когда ты мне рассказала, что было у тебя в 18-м году в Томске. Много горьких сомнений зародилось в душе, не раз ночью плакал или надолго уходил куда-нибудь, чаще на кладбище, и думал, думал, но, слава Богу, любовь к тебе взяла верх».
В чем именно призналась ему Нина, можно только догадываться, зато место его одиноких ночных прогулок установить нетрудно – это кладбище Госпитального городка в Харбине. В годы русско-японской войны на нем хоронили умерших в двух здешних госпиталях солдат и офицеров. Отсюда недалеко было до Модягоу, где Пепеляев с семьей снимал квартиру.
Свое тогдашнее душевное состояние он потом одной фразой передаст в дневнике: «В прошлом году это ужасное известие навсегда убило во мне радость жизни».
Подразумевается признание Нины. Слово «навсегда», которое употребил Пепеляев, вспоминая убитую в нем «радость жизни», говорит лишь о том, что год спустя ему все еще было больно. Похоже, она того и добивалась, чтобы уязвить его и пробудить угасающий интерес к себе, но после расставания казнила себя за это и за все остальное, что омрачало их отношения в последние два года. Ее письмо с просьбой о прощении привезет в Якутию генерал Вишневский. Оно не сохранилось, но содержание можно восстановить по ответу Пепеляева: «Ты пишешь “прости меня за все”, прости меня и ты, родная, – во многом, во многом я был неправ, груб, недостаточно внимателен».
Он каялся в традиционных мужских грехах, однако в его прошлой жизни, в той ее части, что прошла отдельно от жены, смутно мелькает образ другой женщины.
3
В январе 1919 года, вскоре после того, как Средне-Сибирский корпус взял Пермь, поручик Малышев в той же газете «Освобождение России», где он недавно просил пермяков одолжить ему «Критику чистого разума» Канта, опубликовал свое стихотворение «Женщина и воин»:
Целуй меня,
Ты – женщина,
Я – воин,
Я шел к тебе средь пихты, гнилопня,
Под пенье пуль, под гром орудий, с боем,
И видел – Ночь садилась на коня
И в снежных вихрях уносилась, воя.
Синели нам уста слепого дня,
Дышала ночь над мертвенным покоем.
Я так устал.
Нам хорошо обоим.
Ты – женщина. Целуй меня.[11]
Может быть, и Пепеляев, «под пенье пуль» прошедший тем же путем от Екатеринбурга до Перми, в дни своего триумфа испытал нечто похожее. Во всяком случае, какая-то женщина приснится ему в самый тяжелый период Якутской экспедиции, во время отступления обратно к Охотскому побережью.
Ее полное имя не доверено даже дневнику, указана лишь первая буква: «Сегодня снилась К., счастливая, с чистым открытым лицом, с глазами, полными любви, такая нежная, но полная сил и жизни, в белом платье… Я все смотрел, смотрел, и сердце наполнялось любовью и радостью. Чем-то милым, каким-то давно забытым чувством повеяло, счастьем».
Если это сон о любимой женщине, то, учитывая, что приснился он тридцатилетнему мужчине на восьмом месяце воздержания, все очень целомудренно. Не исключено, что так все обстояло и наяву, но каковы бы ни были отношения Пепеляева с К., познакомились они скорее всего в Перми.
От притока войск с востока и беженцев с запада ее без того почти стотысячное население увеличилось тогда чуть ли не вдвое, как во всех губернских центрах Урала и Сибири. Пермь стала западным форпостом подвластных Омску территорий, как недавно была восточным рубежом Советской России. Раньше сюда бежали от большевиков, чтобы затем пробираться к Колчаку или в Китай, а теперь, после начала наступления Сибирской армии, здесь скапливались беженцы в надежде на скорое возвращение в Москву и Петроград. На этом оживленном перекрестке с университетом и несколькими газетами неожиданно встречали старых знакомых, а с новыми сходились легко, как в дороге. До того, как в июне 1919 года Сибирская армия оставила Пермь, город был прифронтовым, с характерной для таких мест лихорадочной атмосферой, в которой ценность каждого момента жизни возрастает пропорционально падению цены жизни как таковой.