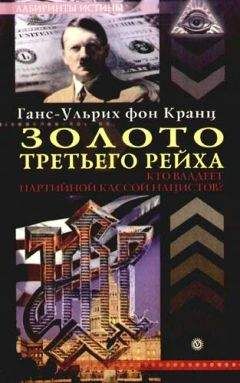Многие нацистские функционеры не утруждали себя соблюдением даже этой показухи, без лишних церемоний хватая противников режима без каких-либо официально оформленных разрешений. Государственные служащие старших рангов, муниципальные чиновники, нацистские заправилы, отребье и хулиганье из локальных ячеек НСДАП и все остальные требовали для себя права упрятать за решетку любого, кто покажется им оппозиционно настроенным в отношении нового режима. Террор снизу возрастал, вместе с ним ширился хаос, который точно охарактеризовал один разъярившийся группенфюрер СА в начале июля 1933 года: «Все арестовывают всех, обходя предписанную официальную процедуру, все угрожают всем превентивными арестами, все угрожают всем Дахау»[148].
Но как поступить с арестованными лицами? Несмотря на все заявления периода Веймарской республики о сокрушении противника, нацистские лидеры предпочитали не забивать голову вопросами чисто практического порядка. Как только весной 1933 года разразилась буря нацистского террора, чиновники по всей Германии отчаянно искали места содержания жертв незаконных арестов. В течение первых месяцев власти нацистов было определено множество мест временного содержания под стражей, которые с полным правом можно считать первыми концентрационными лагерями[149].
Внешний вид этих первых нацистских лагерей весны и лета 1933 года представлял собой весьма пеструю картину. Ими управляли различные местные, региональные и государственные органы, а сами лагеря весьма разнились и по величине, и по форме. Несколько таких лагерей продолжали существовать чуть ли не до крушения Третьего рейха, но почти все первые лагеря были закрыты после нескольких недель или месяцев существования. Условия содержания заключенных тоже были разными – от вполне безопасных до угрожавших жизни и здоровью; в некоторых из них заключенные насилию не подвергались, в то время как в других процветало крайне жестокое обращение. Некоторые из вновь созданных мест изоляции политических противников удостоились термина «концентрационный лагерь», однако и сам термин употреблялся в значительной степени произвольно, в ходу были и другие, например «рабочий лагерь», «пересыльный лагерь». Обилие названий также отражало импровизационный подход нацистов в начальный период террора[150]. Несмотря на все имевшиеся существенные различия, тем не менее первые лагеря имели одну общую цель: сокрушить оппозицию.
Многие первые лагеря устраивали на базе уже существовавших исправительно-трудовых лагерей и тюрем; весной 1933 года целые здания освобождали для подвергнутых превентивному аресту[151]. Власти рассматривали подобный подход как прагматическое решение насущной проблемы. Десятки тысяч заключенных можно было относительно быстро, дешево и надежно изолировать, причем вся инфраструктура от зданий до охранников уже была на месте[152]. Исправительно-трудовые лагеря вообще не составляло труда преобразовать в концентрационные – нередко они пустовали, поскольку в годы Веймарской республики практически не использовались. В большом исправительно-трудовом лагере в Морингене под Гёттингеном, например, в 1932 году содержалось менее ста нищих и бродяг, и начальник лагеря приветствовал прибытие заключенных, подвергнутых превентивному аресту, рассчитывая, что это вдохнет жизнь в его полузабытое учреждение; надо сказать, он не был разочарован[153]. Сложнее обстояли дела в государственных тюрьмах, которые были уже переполнены обычными заключенными, то есть обычными преступниками, получившими различные сроки заключения. Но, желая засвидетельствовать лояльность новому режиму, правоохранительные органы согласились временно приоткрыть большие государственные тюрьмы и не очень большие тюрьмы земель для размещения контингента противозаконно арестованных. Вскоре оборудовали и камеры. К началу апреля 1933 года в одних только тюрьмах Баварии содержалось свыше 4500 заключенных, подвергнутых превентивному аресту, то есть почти столько же, сколько обычных заключенных, осужденных за совершенные уголовные преступления разной степени тяжести[154].
Обращение с заключенными, подвергнутыми превентивному аресту, было весьма строгим, зачастую им приходилось терпеть издевательства уголовниковсокамерников, да и в остальном вкушать все прелести мест заключения, включая изматывающий распорядок дня. Тяжелее всего было отсутствие уверенности в завтрашнем дне, да и в будущем в целом, давала знать и тревога за оставшихся на воле близких. К сентябрю 1933 года Сента Баймлер уже провела свыше четырех месяцев в холодных, мрачных застенках тюрьмы Штадельхайм в Мюнхене – одной из нескольких тюрем Баварии, где в одном крыле содержались и мужчины и женщины, подвергнутые превентивному аресту. Конца этому видно не было. Что еще хуже – она не получала известий о судьбе мужа Ганса с тех пор, как он совершил дерзкий побег из Дахау; письмо, которое он послал из СССР, полное любви и заботы о ней, доберется до Сенты лишь годы спустя. Между тем полиция арестовала ее мать и сестру за их сочувствие коммунистам, а ее маленький сын был отправлен в приют. Сента Баймлер была не единственной заключенной в тюрьме Штадельхайм Мюнхена, кому не давала покоя участь родных и близких. Один из ее товарищей-коммунистов, Магдалена Кнёдлер, дети которой оказались брошены на произвол судьбы после ареста ее и ее мужа, не выдержав мук, в припадке отчаяния повесилась[155].
Несмотря на все трудности, большинство заключенных, подвергнутых превентивному аресту, считали пребывание в тюрьмах и исправительно-трудовых лагерях терпимым. Их, как правило, содержали отдельно от основного контингента тюрем, иногда в больших камерах, таким образом формировалось нечто вроде коммуны. Камеры были хоть и просты, но не убоги – койка, стул, стол, книжная полка, умывальник и ведро, служившее туалетом[156]. Питание в основном устраивало, кроме того, заключенных не принуждали работать. Время коротали в беседах, чтении, настольных играх, иногда занимались и физическими упражнениями. За время, проведенное в берлинской тюрьме Шпандау летом 1933 года, Людвиг Бендикс, пожилой еврей умеренно левых взглядов, адвокат и юридический консультант, сумел даже написать трактат на тему уголовного права, который несколько месяцев спустя был напечатан в одном из солидных журналов по вопросам криминологии[157].
Известные в обществе заключенные, такие как Людвиг Бендикс или Сента Баймлер, актам насилия не подвергались или почти не подвергались. Физическое насилие уже очень давно было изжито в немецких тюрьмах и исправительно-трудовых лагерях, и охранники старой закалки этого правила придерживались. Именно поэтому атмосферу в Шпандау можно было охарактеризовать, по словам Бендикса, как «сносную» и «спокойную». Несколько лет спустя Бендикс вспоминал, что охранники даже в известной степени сочувствовали ему[158]. В некоторых других тюрьмах и исправительно-трудовых лагерях заключенные перестали чувствовать себя столь спокойно и безопасно, когда штат охранников стал пополняться штурмовиками и эсэсовцами. Впрочем, если новички зарывались, охранники со стажем быстро ставили их на место[159]. Кроме того, юристы настояли на том, чтобы заключенных, подвергнутых превентивному аресту, рассматривали как обычных заключенных и чтобы полиция и нацисты-штурмовики не вмешивались в вопросы их содержания[160].
Нацистская трактовка термина «превентивный арест», то есть как «взятие лица под стражу полицией в целях предотвращения угрозы жизни охраняемого», воспринималась как верх цинизма. Поскольку один смелый заключенный небольшой тюрьмы пожаловался прусским властям в конце марта 1933 года, что он, дескать, весьма «тронут проявляемой к моей персоне заботой», но не нуждается ни в какой «превентивной защите», потому что «никто из достойных людей мне не угрожает»[161]. Впрочем, иногда именно превентивный арест с содержанием в тюрьмах или исправительно-трудовых лагерях действительно хотя бы на время уберегал кое-кого из задержанных от гибели, во всяком случае, оказаться в тюрьме было куда безопаснее, чем в первых концлагерях[162]. И нацисты, кипя от бешенства, сетовали, что, дескать, их противников держат в местах заключения, которые больше напоминают санатории, и требовали передать их в так называемые «концентрационные лагеря», где им будет гарантировано куда более жесткое лечение[163].
4 сентября 1933 года жизнь Фрица Зольмица, журналиста, социал-демократа и члена местного совета из Любека непоправимо и страшно изменилась. Тогда Зольмиц был одним из приблизительно 500 человек, находившихся в превентивном заключении в самой крупной тюрьме Германии в районе Гамбурга Фульсбюттель, рассчитанной на несколько тысяч заключенных. С конца марта 1933 года в Фульсбюттеле было отведено целое крыло для арестованных полицией лиц, подобных Зольмицу. Там первоначально управляли вполне вменяемые тюремные служащие старшего возраста, но период относительного спокойствия долго не продлился. В начале августа 1933 года гауляйтер Гамбурга (окружной лидер НСДАП) Карл Кауфман выразил свое возмущение якобы слишком мягким режимом содержания заключенных и поклялся все перетряхнуть. Всего месяц спустя Кауфман присутствовал на открытии первого централизованного концентрационного лагеря Гамбурга в другой части Фульсбюттеля. Новый лагерь, вскоре ставший известным как Kola-Fu («концлагерь Фульсбюттель»), был, по существу, личной вотчиной Кауфмана, который назначил комендантом свое доверенное лицо – ветерана НСДАП. Кауфман и его люди видели, как Зольмиц вместе с другими заключенными, выйдя из прежних камер, утром 4 сентября выстроились во дворе. После грозного выступления одного из чиновников, объявившего, что заключенным преподадут хороший урок о том, что никому не подорвать устои Германии Адольфа Гитлера, начался первый раунд систематических издевательств: новая охрана – примерно три десятка молодчиков из СС – принялась пинать ногами и избивать кулаками заключенных[164].